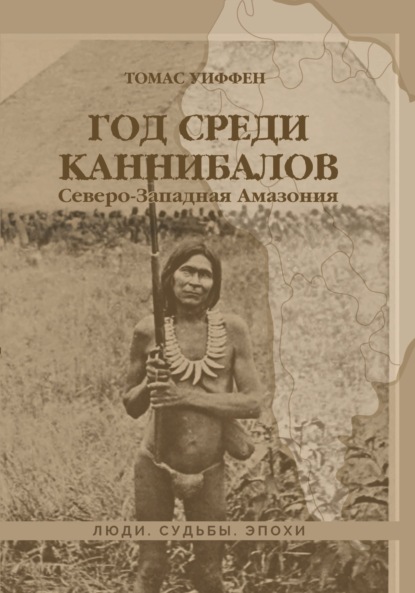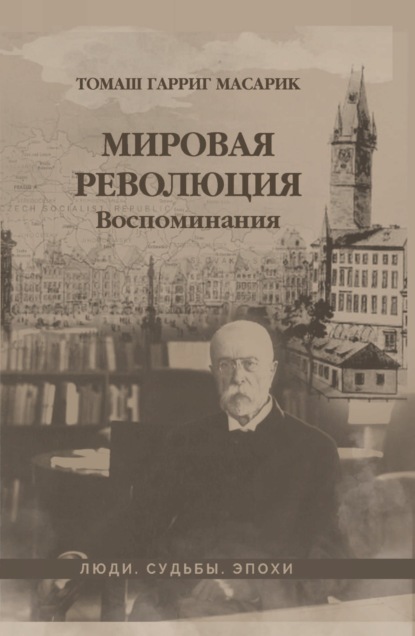Полная версия
Мемуары. События и люди. 1878–1918
Вы видели, может быть, читатели, его недавний портрет. Этот господин преспокойно женился на женщине моложе себя и имеет вид хорошо упитанного рантье, отдыхающего от трудов по приобретении соответствующего количества процентных бумаг.
Есть в дневнике Куропаткина одно замечательно яркое место – он пишет: «я сегодня был принят государыней императрицей Марией Федоровной в Гатчине очень вежливо. Много расспрашивала, но прежней сердечности нет. Расспрашивала про Ливадию, про болгарские и македонские дела, говорила про правительственные циркуляры. Подняла свой кулачок и сказала: “Вот это надобно показать туркам!”».
Эта сцена дает нам, так сказать, символ монархии последнего времени, как она разоблачает себя сейчас в мемуарах венценосцев и их канцлеров. Да, вот такой сморщенный дегенеративный кулачок воображает, что он держит в своих руках судьбу страны. Но хуже всего то, что это не только воображение, это не только самообольщение поставленных судьбой столь высоко глупых и пошлых людей, они действительно имели огромное влияние на события.
Конечно, мы ни на секунду не отступим от нашей марксистской философии истории, мы знаем, что всякая личность, в том числе и личность монарха, закономерна, ей не принадлежит определять, социологически говоря, ход событий, но мы все-таки вряд ли предполагали все то количество глупости, подлости, которое наделали на своих тронах эти господа. И мемуарная литература нынешних лет каленым железом прижигает одну за другой шеи реакционной гидры, чтобы на них вновь не выросло бы какой-нибудь коронованной головы.
Никто не похоронил Николая глубже, чем Витте, заявляющий себя монархистом, а Вильгельм сам чрезвычайно ловко закопал себя сажени на три под землю.
В этом смысл его мемуаров. И вот почему появление их на русском языке так желательно.
А. ЛуначарскийI. Бисмарк
Князь Бисмарк как государственный деятель такая крупная величина и его незабываемые заслуги перед Пруссией и Германией являются историческими фактами такого огромного значения, что едва ли в каком-нибудь политическом лагере найдется хоть один человек, который осмелился бы это оспаривать. Уже по одному этому легенда о том, будто я не признавал крупного масштаба личности Бисмарка, является вздорным вымыслом. На самом деле было обратное. Я преклонялся перед ним и обоготворял его. И это не могло быть иначе. Надо принять во внимание, с каким поколением я вырос. Это было поколение поклонников Бисмарка. Он был создатель германского государства, паладин моего деда; мы все считали его величайшим государственным деятелем своего времени и гордились тем, что он немец. Бисмарк был в моем храме идолом, которому я молился. Но монархи ведь тоже люди из плоти и крови; поэтому и они подвержены тем влияниям, которые вытекают из поступков других. Таким образом, легко будет понять по-человечески, что князь Бисмарк, вследствие своей борьбы против меня, тяжелыми ударами сам разбил того идола, о котором я говорил раньше. Мое преклонение перед Бисмарком как великим государственным деятелем от этого, однако, не пострадало. Еще когда я был прусским принцем, я часто думал: надо надеяться, что великий канцлер будет еще долго жить, и я был бы гарантирован от всяких неожиданностей, если бы мог править вместе с ним. Но не могло же мое преклонение перед великим государственным деятелем заставить меня, когда я уже стал императором, взять на себя ответственность за те политические планы и действия князя, которые я считал ошибочными.
Уже Берлинский конгресс 1878 г. был, по моему мнению, ошибкой, как и отношение Бисмарка к так называемой культурной борьбе. Кроме того, государственная конституция была скроена по Бисмарковскому необыкновенному масштабу: большие кирасирские сапоги не всякому подходили. Затем возник вопрос о рабочем законодательстве. Я глубоко сожалел о возникшем между нами по этому поводу конфликте, но я должен был тогда пойти по пути компромисса, который вообще всегда был моим путем как во внутренней, так и во внешней политике. Поэтому я не мог начать той открытой борьбы против социал-демократии, которой хотел князь. Эта разница во взглядах на политические мероприятия не может, однако, умалить мое преклонение перед крупной фигурой Бисмарка как государственного деятеля. Он остается создателем Германского государства; больше сделать для своей страны едва ли может один человек.
Перед моими глазами всегда стояла великая заслуга Бисмарка в деле объединения Германии, и поэтому я не поддавался влиянию той травли, которая тогда стояла в порядке дня.
И то, что Бисмарка называли домоуправителем Гогенцоллернов, также не могло поколебать моего доверия к князю, хотя он, быть может, и думал о политической традиции своего дома. Он, например, был очень опечален тем, что его сын Билль не проявлял никакого интереса к политике, и хотел передать власть другому своему сыну Герберту.
Трагедия моего столкновения с Бисмарком кроется в том, что я явился преемником своего деда, так что я в известной мере перепрыгнул через одно поколение. Это трудно. Приходится всегда иметь дело со старыми заслуженными людьми, которые живут больше в прошлом, чем в настоящем, и не могут врасти в будущее.
Когда внук наследует деду и находит уважаемого им, но старого государственного деятеля такой крупной величины, как Бисмарк, то это далеко не счастье, как это могло бы показаться и как я и сам думал. Сам Бисмарк указывает на это в третьем томе своих сочинений (стр. 40), говоря в главе о Беттихере о старческой осторожности канцлера и юноше-кайзере. И когда Баллин заставил Бисмарка бросить взгляд на новую Гамбургскую гавань, князь сам почувствовал, что наступило новое время, которое он не мог уже вполне понять. Князь тогда с изумлением воскликнул: «Другой мир, новый мир!» Подобным же образом обнаружилось это обстоятельство и при посещении адмиралом фон Тирпицем Фридрихсру, когда тот пытался склонить старика-рейхсканцлера на сторону первого законопроекта о флоте.
Я лично имею то удовлетворение, что Бисмарк мне в 1886 г. доверил чрезвычайно деликатную миссию в Брест и при этом сказал обо мне: «Этот когда-нибудь станет своим собственным канцлером». По-видимому, князь кое-что во мне находил. Я не в обиде на него за третий том его воспоминаний; я этот том освободил из-под ареста.
Дальнейшее задержание его было бы бесцельно, так как главное его содержание стало уже известно благодаря нескромности некоторых. Иначе можно было быть разного мнения о своевременности появлений этого тома. Бисмарк перевернулся бы в гробу, если бы мог знать, в какой момент вышел в свет третий том и каковы были его результаты.
Я бы искренно сожалел, если бы третий том повредил памяти великого канцлера, так как Бисмарк – одна из героических фигур, которые нужны немецкому народу для его возрождения.
Моя благодарность и мое преклонение перед великим канцлером не могут быть поколеблены ни третьим томом его воспоминаний, ни чем бы то ни было иным.
В первой половине 80-х годов я по предложению князя Бисмарка был командирован в министерство иностранных дел, которым руководил тогда граф Герберт Бисмарк. Когда я явился к князю, он дал мне краткую характеристику главных лиц в министерстве. Когда при этом он назвал г-на фон Гольштейна, который тогда был одним из виднейших сотрудников князя, для меня как бы прозвучало в словах князя предостережение против этого человека.
Я получил отдельный кабинет, причем мне были представлены для изучения все материалы о подготовке, возникновении и заключении союза с Австрией (Андраши). Я много бывал в доме князя и у графа Герберта. После того как я несколько освоился в Бисмарковском кругу, при мне стали более открыто говорить о г-не фон Гольштейне. О нем передавали, что он очень боязлив, хороший работник, безмерно тщеславен, чудак, который нигде не показывается и совершенно не вращается в обществе, недоверчивый, полный причуд, притом злопамятный – словом, опасен. Князь называл его «человеком с глазами гиены» и говорил, что мне бы следовало держаться вдали от него. Очевидно, уже тогда у Бисмарка назревало то резко-критическое отношение к Гольштейну, какое князь позднее проявлял по отношению к своему прежнему сотруднику.
Граф Герберт, грубость которого по отношению к подчиненным бросалась мне в глаза, сурово подтягивал чиновников в министерстве иностранных дел. Когда граф звал их или отпускал, они так мчались, что, как тогда говорили в шутку, «полы сюртука развевались у них перпендикулярно телу».
Внешняя политика направлялась и диктовалась исключительно князем по соглашению с графом Гербертом, который передавал дальше приказания канцлера и переделывал их в инструкции.
Таким образом, министерство иностранных дел являлось как бы только личным бюро великого канцлера, где работали по его указке.
Здесь не вырабатывались и не сформировывались выдающиеся люди с самостоятельными идеями.
Не то было в генеральном штабе под руководством Мольтке. Здесь на основе испытанных принципов, при соблюдении старых традиций и одновременном использовании всего опыта нового времени заботливо воспитывалось молодое поколение и приучалось к самостоятельному мышлению и к самостоятельной деятельности. Министерство же иностранных дел, напротив, представляло собой лишь исполнительный орган одной воли, и сотрудники его, не будучи ориентированы во всех обстоятельствах, порученных им для разработки вопросов, не могли проявить никакой самодеятельности. Князь расположился, как огромная гранитная глыба на лугу: если ее убрать, то под ней по преимуществу найдешь гадов и засохшие корни.
Я снискал к себе доверие князя, который о многом со мной беседовал. Когда, например, князь вступил на путь первых колониальных приобретений (Мал. и Бол. Попо, Того и т. д.), я, по его просьбе, ориентировал его по поводу того настроения, которое тогда царило в обществе и во флоте, и обрисовал то воодушевление, с каким немецкий народ приветствовал новый путь. В связи с моей информацией князь заметил, что дело не заслуживает такого внимания. Позже я часто говорил с князем о колониальном вопросе и всегда встречал у него желание скорее использовать колонии как объект торговли или обмена, чем извлечь из них выгоду для отечества или использовать для доставки сырья.
Я обращал внимание князя на то, что купец и капиталист начали энергично развивать колонии и соответственно с этим, как я знал из ганзейских кругов, рассчитывали на защиту флота. Поэтому, говорил я, надо позаботиться о своевременном сооружении флота, чтобы немецкие ценности не остались беззащитными за границей. Князь уже развернул германский флаг на чужбине; за этим флагом стоит народ; но за ним должен стоять и флот. Князь, однако, оставался глух к моим словам и употреблял свое любимое изречение: «Если бы англичане высадились у нас, я бы велел их арестовать»; колонии должны были быть защищены собственными силами. Князь совершенно не принимал во внимание, что уже одно предположение, что англичане могли бы беспрепятственно высадиться в Германии (Гельголанд принадлежал Англии), было совершенно невыносимо для Германии и что мы, чтобы исключить на будущее время возможность высадки, нуждались в достаточно сильном флоте и в Гельголанде.
Политические интересы князя сосредоточивались главным образом на европейском континенте. Англия стояла несколько в стороне от его повседневных забот, тем более что Солсбери был в хороших отношениях с князем и Англия в свое время приветствовала двойственное и потом тройственное согласие при его основании. Князь преимущественно работал с Россией, Австрией, Италией и Румынией, отношения которых к Германии и взаимоотношения которых между собой он постоянно контролировал.
Относительно той предусмотрительности и того искусства, с которыми он при этом оперировал, сделал раз чрезвычайно меткое замечание император Вильгельм Великий в разговоре с генералом фон Альбедилем. Генерал нашел его величество после одного доклада Бисмарка в таком большом волнении, что он испугался даже за здоровье старого императора. Он сделал поэтому замечание, что императору незачем так волноваться: если князь поступает против воли его величества, то ведь ему можно дать отставку. На это император возразил, что, несмотря на его благодарность и на его преклонение перед великим государственным деятелем, он и сам об этом уже думал, ибо самонадеянный нрав князя иногда слишком уже угнетает. Но он и отечество слишком нуждаются в Бисмарке, потому что князь – единственный человек, который умеет жонглировать пятью шарами, из которых по крайней мере два постоянно находятся в воздухе, – этого он, император, не умеет.
Князь не замечал того, что благодаря приобретению колоний он должен был направить свой взгляд за пределы Европы, будучи вынужден вести в особом масштабе большую политику с Англией. Англия была, правда, одним из пяти шаров в его дипломатической игре, но только одним из пяти, и ей не придавалось того особого значения, которое ей подобало.
Поэтому министерство иностранных дел отыгрывалось на странах континента, не проявляя должного интереса к колониям, флоту и Англии и не имея никакого опыта в мировой политике. Английская психика и английская мысль с ее упорным, хотя и замаскированным, преследованием плана мировой гегемонии были для министерства иностранных дел книгой за семью печатями.
Однажды князь сказал мне, что его главная цель состоит в том, чтобы не допустить соглашения между Россией и Англией. На это я позволил себе ответить: «Момент, чтобы отодвинуть возможность такого соглашения на очень долгое время, был бы почти налицо, если бы в 1877–78 гг. русских пустили в Стамбул. Тогда английский флот немедленно выступил бы на защиту Стамбула, и конфликт был бы налицо. Вместо этого русским навязали Сан-Стефанский договор и принудили их к отступлению перед воротами города, к которому они подошли после кошмарных боев и трудностей и который они уже видели перед собой. Это породило в русской армии неугасимую ненависть к нам (сообщения прусских офицеров в русской армии, участвовавших в походе, особенно графа Пфейля). Вдобавок еще уничтожили и этот договор и заменили его Берлинским, еще больше опорочившим нас в глазах русских как врагов их «справедливых интересов на Востоке». Таким образом, желанный для князя конфликт между Россией и Англией был отодвинут на долгое время.
Князь не разделял этой критики «своего» конгресса, результатами которого он, как «честный маклер», так гордился, и серьезно заметил, что он обязан был предотвратить всеобщий пожар и предложить свои услуги для посредничества. Когда я позднее сообщил об этой беседе одному сотруднику министерства иностранных дел, тот рассказал мне, что он был при том, когда князь после подписания Берлинского договора пришел в министерство иностранных дел и принимал поздравления от собравшихся там чиновников. Отвечая на приветствия, князь выпрямился и сказал: «Теперь я поеду по Европе четверкой, погоняя ее». Приведя эти слова, упомянутый сотрудник добавил: «Князь тут ошибся, так как тогда уже вместо русско-прусской дружбы грозило возникновение русско-французской, и таким образом две лошади уже выбывали из четверки». Политика Дизраэли превратила в глазах русских честное маклерство Бисмарка в фактор англо-австрийской победы над Россией.
Хотя взгляды наши во многом расходились, князь все же оставался расположен ко мне, и, несмотря на большую разницу наших лет, между нами образовались дружеские отношения, ибо я, как все мое поколение, был пламенным поклонником князя и, благодаря своему рвению и прямодушию, приобрел его доверие, которое я никогда не обманул.
Во время моего прикомандирования к министерству иностранных дел мне между прочим делал доклады о торговой политике, колониях и т. п. тайный советник Рашдау. Тогда уже я обратил внимание на нашу зависимость от Англии, зависимость, покоившуюся в том, что у нас не было флота и что Гельголанд был в английских руках. Под гнетом необходимости имелось, правда, в виду расширение колониальных владений, но это могло произойти лишь с разрешения Англии. Это было затруднительно и, в сущности, недостойно нас.
Мое прикомандирование к министерству иностранных дел причинило мне большую неприятность. Мои родители относились не очень дружелюбно к князю Бисмарку и ставили в вину своему сыну, что он вступил в бисмарковский круг. Боялись влияний против родителей, ультраконсерватизма и т. п., в чем меня обвиняли всякого рода наушники из либеральных кругов Англии, видевшие в моем отце свою защиту.
На такие обвинения я никогда не обращал внимания, но мое положение в родительском доме благодаря этому становилось трудным, а подчас и мучительным. Мне приходилось переносить много тяжелого из-за моей работы под руководством Бисмарка и из-за моей скрытности в отношении всего, что касалось князя, скрытности, часто подвергавшейся самым тяжелым испытаниям. Князь, по-видимому, находил это само собой понятным.
С графом Гербертом я был в хороших отношениях. Он был веселым собеседником и умел собирать вокруг своего стола интересных людей, частью из министерства иностранных дел, частью из других кругов. Но до настоящих дружеских отношений между нами не дошло. Это обнаружилось особенно тогда, когда в связи с уходом Бисмарка и граф Герберт потребовал отставки. На мою просьбу остаться при мне и помочь мне продолжать традицию в политике последовало резкое возражение: он-де привык докладывать и служить только своему отцу; невозможно от него требовать, чтоб он с портфелем под мышкой шел на доклад к кому-нибудь другому, а не к своему отцу.
Когда ныне убитый царь Николай II достиг совершеннолетия, я по предложению князя Бисмарка получил поручение вручить наследнику цесаревичу в Петербурге орден Черного орла. Как император, так и князь знакомили меня с взаимоотношениями обеих стран и династий, с нравами, личностями и т. д. В заключение кайзер заметил, что он дает своему внуку тот же совет, который ему, как молодому человеку, в свое время дал при первом посещении им России граф Адлерберг: «Впрочем, там, в России, как и всюду, любят больше похвалу, чем хулу». Князь же закончил свою информацию замечанием: «На востоке все люди, которые носят рубашку поверх брюк, порядочные люди, но если только они ее засовывают в брюки и к тому же еще имеют орден на шее – это уже свиньи».
Из Петербурга я часто писал донесения и моему деду, и князю. Я, само собой разумеется, описывал, как умел, свои впечатления. Прежде всего, мне стало ясно, что прежние русско-прусские отношения и чувства сильно охладели и уже больше не являлись такими, какими их представляли себе в своих беседах кайзер и князь. По моем возвращении я получил похвалу как от моего деда, так и от князя за мои простые и ясные донесения, и это было для меня тем более отрадно, что меня угнетала мысль, что я в некоторых отношениях должен был их как бы разочаровать.
В 1886 году, в конце августа и начале сентября, после последнего Гаштейнского свидания императора Вильгельма Великого и Бисмарка с императором Францем Иосифом, на котором я присутствовал по приказанию моего деда, на мою долю выпало поручение передать лично императору Александру III о результатах Гаштейнского свидания и обсудить совместно с царем вопросы, касающиеся Средиземного моря и Турции. Князь дал мне свои инструкции, санкционированные императором Вильгельмом. Они в особенности касались желания России пойти на Стамбул, чему князь не собирался чинить никаких затруднений. Напротив, я получил прямое поручение предложить России Константинополь и Дарданеллы (таким образом, уже отказывались от Сан-Стефано и от Берлинского конгресса!). Имелось в виду дружественно убедить Турцию, что соглашение с Россией желательно и для нее. Я встретил дружеский прием у царя в Брест-Литовске и принял участие в тамошних парадах, маневрах и т. д., которые уже неоспоримо носили антинемецкий характер.
Как результат разговоров с царем, важно отметить заявление последнего о том, что, если бы он захотел овладеть Стамбулом, он бы его взял, если бы это входило в его расчеты; в разрешении же или согласии князя Бисмарка он не нуждается. После этого резкого отклонения бисмарковского предложения я счел, что моя миссия потерпела крушение. Соответственным образом я и составил свое донесение князю.
Решившись на упомянутое предложение царю, князь, по-видимому, либо изменил свои политические взгляды, поведшие к Сан-Стефано и к Берлинскому конгрессу, либо, побуждаемый изменением общего политического положения в Европе, счел, что пришел момент перетасовать политические карты, или, как сказал бы мой дед, иначе «жонглировать». Это мог себе позволить только человек такого мирового значения, такого масштаба в смысле политическом и дипломатическом, как Бисмарк. Строил ли князь с самого начала свою большую политическую игру с Россией с таким расчетом, чтобы на Берлинском конгрессе помешать всеобщей войне, погладив по шерстке Англию и воспрепятствовавши домогательствам России относительно Востока, с гениальным умыслом тем очевиднее помочь осуществлению этих домогательств впоследствии – этого я не могу решить, так как своих больших политических построений князь никому не доверял. Если это было так, то он, твердо надеясь на свое политическое искусство, по-видимому, рассчитывал позже снискать тем большее расположение России, так как русские домогательства были бы в этом случае осуществлены исключительно благодаря Германии и к тому же в такой момент, когда общая политическая ситуация в Европе была менее напряжена, чем в 1877–78 гг. В таком случае никто, кроме самого князя Бисмарка, не мог бы успешно довести до конца эту великолепную игру.
В этом кроется слабая сторона великих людей. Информировал ли он и Англию относительно своего предложения царю? Тут, вероятно, произошло обратное тому, что в 1878 г. Во всяком случае князь теперь повел ту политику, которая витала передо мной еще тогда, когда я узнал о разочаровании русских, стоявших перед Стамбулом и не допущенных туда.
В Брест-Литовске во время продолжительных военных маневров всякого рода я мог очень хорошо наблюдать, что отношение русских офицеров ко мне стало гораздо холоднее и высокомернее, чем при моем первом посещении Петербурга. Только небольшое число старых генералов, особенно придворных, связанных с эпохой Александра II, знакомых с императором Вильгельмом Великим и преданных последнему, выказывали еще свое благоговение перед ним и свои симпатии к Германии. В разговоре со мной о взаимоотношениях обоих дворов, армий и стран, взаимоотношениях, которые я нашел изменившимися в сравнении с прежним, один из этих генералов сказал:
«C’est le vilain Congrès de Berlin! Une grave faute du Chancelier. Il a détruit l’ancienne amitié entre nous, planté la méfiance dans les coeurs de la cour et du gouvernement, et fourni le sentiment d’un fort grave fait à l’armée russe après sa campagne sanglante de 1877, pour lequel elle peut sa revanche. Et nous voilà ensemble avec cette maudite République Française, pleine de haine contre vous et remplie d’idées subversives, qui en cas de guerre avec vous, nous coûteront notre dynastie»1.
Пророческое предсказание гибели русского царствующего дома! Из Бреста я направился в Страсбург, где мой дед находился на маневрах. Несмотря на неудачу моей миссии, я застал там спокойный взгляд на политическое положение. Мой дед радовался сердечным приветам царя, которые не обнаруживали никакой перемены, по крайней мере, в личных отношениях обоих государей.
К моему удивлению, я получил письмо и от князя Бисмарка, в котором он выражал благодарность и признание за мою деятельность и мой доклад. Это имело тем больше значения, что мои выводы не могли быть приятны ни для моего деда, ни для канцлера. Берлинский конгресс уничтожил, особенно в русских военных кругах, остатки еще поддерживавшегося у нас традиционного братства по оружию и породил раздуваемую общением с французским офицерским корпусом ненависть против всего прусско-немецкого, которая благодаря французам увеличилась до жажды мести при помощи оружия. Это была почва, на которой позже могла найти себе пищу среди наших противников мысль о мировой войне: «Revanche pour Sedan», соединенное с «Krevanche pour San-Stefano».
Слова старого генерала в Бресте оставили неизгладимый след в моей памяти и побудили меня ко многим свиданиям с Александром III и Николаем II, при которых перед моими глазами всегда, как лейтмотив, стояла возложенная на меня моим дедом на смертном одре забота о поддержании добрых отношений с Россией.
В 1890 году во время маневров в Нарве я должен был подробно обрисовать царю историю ухода князя Бисмарка. Царь слушал меня внимательно. Когда я окончил, государь, обычно очень хладнокровный и сдержанный, редко говоривший о политике, вдруг схватил мою руку, стал благодарить за доказательство моего доверия, сожалел, что я был поставлен в такое положение, и прибавил буквально следующее: «Je comprends parfaitement ta ligne d’action. Le prince avec toute sa grandeur n’était après tout rien d’autre que ton employé ou fonctionnaire. Le moment oû il refusait d’agir selon tes ordres, il fallait le renvoyer. Moi, pour ma part, je me suis toujours méfié de lui, et je n’ai jamais cru un mot qe ce qu’il me faisait savoir ou me disait, car j’étais sur et je savais qu’il me blaguait tout le temps. Pour les rapports entre nous deux, mon cher Guillaume, – это было в первый раз, что царь меня так называл, – la chute du prince aura les meilleures consequences. La méfiance disparaîtra. J’ai confiance en toi, tu peux te fier à moin»2.