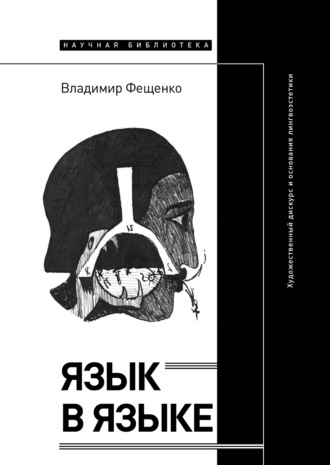
Полная версия
Язык в языке. Художественный дискурс и основания лингвоэстетики
Здесь Энгельгардт вплотную приближается к одному из главнейших параметров художественного произведения – его целостности. Эстетически значимое произведение всегда представляет собой целое, именно в силу своей целостности оно производит эстетический эффект и именно в силу целостности должно рассматриваться в эстетическом анализе:
В силу этого, поскольку поэтическое произведение всегда представляет собою сложное словесное образование, понятие словесного ряда в его вещной определенности, с которым оперирует эстетика слова, неизбежно должно охватывать не только всю совокупность отдельных элементов этого ряда по их качественному содержанию, но и момент специфической организованности этих качественных содержаний, то есть их структурное единство [там же: 47].
Составные элементы словесного произведения искусства оформляются как целостная и неразложимая структура.
Художественное произведение, подчеркивает далее Энгельгардт, целостно не только по формальному признаку, но и в единстве своего содержания. Отсюда еще один важный вывод для эстетики слова:
Поскольку, с одной стороны, в поэтическом произведении дано эстетическое оформление имманентно-организованного словесного ряда, то есть потенциального словесного образования, постольку, с другой стороны, организующим принципом таких образований являются те системы единоцелостных смыслов, которые ими объемлются, постольку и эти последние, наряду с звуковой формой слова и совокупностью номинативных значений, находят свое эстетическое оформление в поэтическом произведении [Шпет 2007: 48].
Таким образом, семантический треугольник Г. Фреге (знак – значение – смысл) преобразуется в художественном произведении в единосущную триаду: эстетическая форма – номинативные значения – едино-целостные смыслы (см. наше собственное развитие этой идеи ниже, в главе III). Все три составляющие этой триады связаны эстетическим единством художественного произведения. Поэтому Энгельгардт позволяет себе говорить о таком произведении как о замкнутой на себя, внутренне единой структуре только в плане эстетической оформленности смысловых единств словесного ряда. В этом ему видится «решительная неудача» сугубо формального подхода к литературному произведению, при котором оно рассматривается вне соотнесения его как единства к едино-целостному смыслу.
Далее Энгельгардт вдается в некоторые подробности основных вопросов эстетики слова, а также выясняет связи эстетики слова с общей и частной лингвистикой. Современная лингвистика, с его точки зрения, почти вовсе не обсуждает вопрос о произведении как структурном единстве, ограничиваясь в большинстве случаев изучением отдельного слова. Энгельгардт может рассматриваться, наряду с М. М. Бахтиным, одним из ранних предвестников теории текста. Но необходимо оговориться, что лингвистика текста строила свои законы по большей части на почве формально-структурных методов. Эстетические компоненты художественного текста в лучшем случае лишь принимались во внимание, но редко исследовались в необходимой мере.
Знаменательно, что в своем обосновании эстетики слова Энгельгардт отталкивается от критики русского формализма. Формализм, с точки зрения Энгельгардта, не способен постичь эстетическое произведение как целостную, внутренне единую структуру:
Дело в том, что эстетическая значимость как таковая всегда принадлежит тому или иному образованию, именно как таковому, как целостной внутренне единой структуре, а не его элементам. В этом смысле эстетическая значимость может быть приравнена к едино-целостному смыслу произведения [там же: 57].
Формальная школа, утверждает Энгельгардт, исходя из правильно намеченных предпосылок «эстетики вещи», построила (в соответствии с данными коммуникативной лингвистики) определение поэтического произведения как системы самодовлеющих приемов, «причем его едино-целостный смысл рассматривался как эстетически безразличный материал для реализации чистой словесной формы» [там же: 56]. Здесь же делается намек на то, какой лингвистикой следует руководствоваться «эстетикой слова», чтобы избежать заблуждений формализма. Не удовлетворяясь определениями, полученными от «коммуникативной лингвистики», эстетике слова необходимо их искать в тех направлениях современной лингвистики, где слово рассматривается как «особая форма осознания внутреннего опыта, как сама мысль в известный момент ее внутренне необходимого и исторически обусловленного становления». Несложно догадаться, каких лингвистов они имеет в виду – это Гумбольдт и вся гумбольдтианская традиция в языкознании конца XIX – начала XX века45.
Таким образом, Б. М. Энгельгардт, пользуясь терминологическим аппаратом феноменологии, обосновывает ключевые понятия эстетики слова: «эстетическая значимость», «эстетический опыт» и «структурное единство». Значение последней категории – категории структурного единства – подчеркивалось также и П. А. Флоренским, еще одним ключевым автором в описываемой традиции. В работе 1924 года «Анализ пространственности и времени в художественно-изобразительных произведениях» он рассуждает о необходимости двойственного подхода к художественным явлениям: с одной стороны, как к композиции, а с другой – как к конструкции. Причем конструкция произведения осмысляется как внутренняя форма его, то есть некоторый принцип развертывания формы и превращения ее в содержание:
Художественное произведение всегда двойственно, и в этой двойственности коренится необходимость двойного подхода к произведению, а следовательно – и двойной схемы его, соответственною двойственностью потребного тут термина. Художественное произведение есть нечто само о себе, как организованное единство его изобразительных средств <…> Но, кроме того, произведение имеет некоторый смысл, организованное единство всех сред служит выражению этого смысла [Флоренский 2000б: 493–494].
Мы выделили курсивом очень важное представление Флоренского, которое сближает его с современными идеями синергетики. Это идея самоорганизации художественного целого, которое вырастает из собственных частей. Форма в таком понимании имеет четыре важнейшие характеристики: 1) выделенность (самостоятельность), 2) целостность; 3) органичность и 4) динамичность. Об этом Флоренский пишет в черновых записях к курсу «Понятие формы»: «Идею целого мы понимаем как рост, как раскрытие потенции через само-расчленение, через само-организацию…» [там же]. Мы приводим эти слова, чтобы показать, что лингвоэстетика прямо связана с идеей автореференции и самоорганизации языка художественных произведений (этот аспект будет рассмотрен подробнее в главе III).
Еще одним автором, внесшим вклад в осмысление лингвоэстетических проблем, был С. А. Аскольдов, изложивший свои взгляды по этому вопросу в полемическом отклике на труды русских формалистов. Свою статью «Форма и содержание в искусстве слова», вышедшую в третьем выпуске альманаха «Литературная мысль» за 1925 год, Аскольдов начинает с характерной для той эпохи фразы: «Вопрос о значении формы и содержания в искусстве слова стал боевым вопросом в современной литературной критике» [Аскольдов 1925: 305]. Кроме того, вопрос о форме и содержании стал, согласно Аскольдову, «в последнее время симптоматическим для жизни вообще». Будучи квалифицированным философом, Аскольдов сразу напоминает о философских истоках категорий формы и содержания и предпринимает их философский анализ. Понимая форму как «внутреннюю структурность», он разбивает свой разбор на различные составляющие указанной категории. Он разделяет: прагматическое содержание (то есть сюжетную часть художественного произведения), психологическое содержание (аналог прагматического в лирике), форма (все остальное в произведении). Под формой Аскольдов разумеет все формальные элементы текста – от фонетики до ритма. Расширяя таким образом понятие формы, он пытается разобраться, в чем притязания формальной школы являются чрезмерными. Упрек его состоит в том, что формальный подход, изолируя форму, полагает ее единственным материалом художественной значимости.
Художественная значимость – ключевой термин С. А. Аскольдова, который он разовьет затем в своей теории поэтических концептов. Здесь под ним понимается единство соединения формы и содержания как аксиологический акт:
Художественная значимость есть ценность, а не величина, и процесс ее образования имеет конститутивный, а не аддитивный характер [там же: 313].
Изоляция формы от содержания не позволяет, согласно философу, оценить художественную форму в составе целого текста. Каждая форма должна оцениваться по степени художественной значимости. Далее Аскольдов анализирует различные формы с разной степенью художественной значимости в прозе и поэзии. Апофеозом «бесчинства формы» называет он заумную поэзию футуристов, признавая ее лабораторное значение, но отказывая ей в художественной значимости. Таким образом, философ Аскольдов впадает в другую крайность – отрицания эстетического статуса некоторых поэтических и языковых форм. Формалисты в этом вопросе оказались прозорливее, взяв заумную поэзию за наивысший образец эстетической функции языка.
В ряду изданий, внесших вклад в обоснование принципов лингвоэстетики, следует упомянуть сборник, который вышел в 1927 году под названием «Художественная форма: Сборник статей». В предисловии к нему было заявлено:
В противовес формалистам из ОПОЯЗа, которые ограничивают свое исследование сферой внешних форм, мы понимаем художественную форму как «внутреннюю форму». Тем самым мы ставим проблему художественной формы шире и ищем ее решение во взаимоотношении различных форм – логических, синтаксических, мелодических, поэтических как таковых, риторических и т. д. [Художественная форма 1927: 3].
Отметим, что авторами сборника были ученые, опять же так или иначе противостоящие строго формальному методу, среди них Г. О. Винокур, Н. И. Жинкин и др.
Наконец, обозревая лингвоэстетические концепции 1920–1930‐х годов, нельзя пройти мимо М. М. Бахтина и его круга. Сам Бахтин выстраивал свою концепцию «эстетики словесного творчества», критически отталкиваясь (как и другие авторы, рассмотренные выше) от формального метода. Считая, что лингвистика как таковая недостаточна для полноценного анализа поэтического произведения, он всячески подчеркивает значимость именно эстетического статуса художественного объекта. Впрочем, разводя довольно радикально лингвистическую определенность формы и эстетическую ценность содержания, Бахтин не приходит к их синтезу. Ему лишь грезится то время, когда лингвистика осознáет своим объектом более крупные языковые комплексы (текст, диалог):
Только лишь когда лингвистика овладеет своим предметом вполне и со всею методологическою чистотою, она сможет продуктивно работать и для эстетики словесного творчества [Бахтин 1974: 277].
Цитируемый текст с характерным названием «К эстетике слова», по-видимому, относится к более раннему времени, чем 1974 год. Ведь к 1970‐м годам наука о языке уже далеко продвинулась в том направлении, о котором мечталось Бахтину в 1920–1930‐е годы. Так или иначе, центральным вопросом его лингвоэстетики является имманентно и специфически «эстетический характер» поэтического (и шире – литературного) языка. «Художественная форма», согласно такому подходу, должна изучаться как со стороны «эстетического объекта» (которым Бахтин считает исключительно «содержание», по его мнению, недоступное изучению современной ему лингвистикой), так и со стороны «техники формы» (в случае словесного творчества прерогатива исключительно языкознания). Сам Бахтин уделял внимание в своих исследованиях поэтики Достоевского, Рабле и других преимущественно первому аспекту – содержательно-архитектоническому. «Автор-творец – конститутивный момент художественной формы» [Бахтин 1975а: 58]: на основе этого тезиса строятся дальнейшие принципы бахтинского анализа. В частности, принцип «активности» субъекта высказывания в поэтическом акте: «Только в поэзии чувство активности порождения значащего высказывания становится формирующим центром, носителем единства формы» [там же: 65]. В главе III мы вернемся к этому ключевому принципу лингвоэстетического подхода. Сейчас отметим его историческую значимость в дискуссиях первых десятилетий прошлого века о природе художественного языка.
Завершая этот исторический экскурс, необходимо отметить, что лингвоэстетика («эстетика слова» в терминах той эпохи) не стала прочно оформившимся направлением в истории лингвистических учений 1920–1930‐х годов. Воспользовавшись удачной метафорой из известной антологии «Сумерки лингвистики», можно было бы назвать такую историю идей «традицией, мерцающей в толще истории» [Базылев, Нерознак 2001]. «Эстетика слова» выступала как альтернатива формальному методу, предлагая свою методологическую систему. Эта традиция пыталась, так сказать, «воспитать» формализм, прививая ему развитые эстетические навыки. С другой стороны, формальная школа стала двигателем новых теорий языка и искусства. К рассмотрению лингвоэстетических понятий от структурализма и семиотики до нынешнего состояния науки о языке мы переходим в следующей части главы.
4. Язык искусства и язык художественной литературы как знаковые системы: семиотические основания лингвоэстетического подхода
До сих пор мы рассматривали эволюцию лингвоэстетического подхода в трудах лингвистов (Л. В. Щербы, Б. А. Ларина, В. В. Виноградова) и философов языка (А. Белого, Г. Г. Шпета, С. А. Аскольдова, Б. М. Энгельгардта, П. А. Флоренского). В отличие от лингвопоэтической теории, формировавшейся в сознательном дистанцировании от философской рефлексии (в трудах В. Б. Шкловского, Р. О. Якобсона, Е. Д. Поливанова и др.), лингвоэстетика имеет под собой глубокую философскую базу в эстетической теории и философии языка. Особенностью этой методологии является аналитика эстетических категорий (художественная форма, эстетический объект и т. п.) применительно к языковому материалу. Но помимо учета лингвофилософских аспектов изучения эстетики языка, необходимо также обращение к теории знаковых систем, то есть выяснение эстетических параметров языка как деятельности по производству знаков. Как мы попытаемся показать в настоящем параграфе, семиотическая теория представляет собой важную составляющую лингвоэстетического поворота в филологических исследованиях ХХ века. Обратимся к основным идеям семиотики, относящимся к эстетической деятельности.
Семиотика и эстетика: история контактов
История контактов семиотики и эстетики короче истории самих семиотики и эстетики. Семиотика зарождалась в лоне философии и логики. На первых порах ее объектами становились сугубо абстрактные символы и статичные, непротиворечивые системы. Возможно, именно поэтому знаку приписывались такие его составляющие, как означающее и означаемое, а инстанция «означателя», то есть непосредственного субъекта знакового процесса, оставалась за пределами рассмотрения. Как мы увидим далее, в случае художественного семиозиса без этой категории обойтись нельзя. В семиотике искусства она является базовой по отношению ко всем остальным параметрам. Эстетика как теоретическая дисциплина, насчитывающая около трех столетий, обратилась к понятию знака очень поздно, лишь в XX веке. Если возводить истоки философской семиотики к Дж. Локку (впервые употребившему греческое слово semeiotike в современном значении дисциплины «семиотики») и к Г. Лейбницу (изложившему основы «характеристики» как новой науки о знаках), то семиотика оказывается сверстницей эстетики (оба философских учения зародились к XVII–XVIII векам). Однако опять-таки, как и в случае с эстетикой, обращение семиотики к эстетической проблематике датируется первыми десятилетиями ХХ века.
Впрочем, отдаленный прототип современного эстетико-семиотического метода можно обнаружить уже у античных грамматиков III–I веков до н. э. Речь идет о теории мимесиса, в соответствии с которой в искусстве была выявлена основополагающая оппозиция «содержание – форма». Содержание определялось как «подражание событиям истинным и вымышленным» и выражалось в делении всех литературных произведений на роды и жанры. Форма мыслилась как «речь, заключенная в размер». В соответствии с этим выстраивалась система тропов, стилей и метрических размеров. Несомненно, в этих разграничениях можно усмотреть предпосылки структурного мышления. Но в целом методика была чисто описательной, имеющей мало отношения к реальным процессам знакопорождения.
Что касается научной эстетики, ее развитие вплоть до конца XIX века в общих чертах напоминало прогресс литературной поэтики. Наука в этот период предпочитала заниматься риторическими параметрами художественного творчества, отвлекаясь от природы индивидуального смыслополагания. Оговоримся, что это наше утверждение не относится ко всем без исключения теориям классической эпохи. Весьма вероятно, что внимательное исследование могло бы выявить немало интересных прозрений о знаковой сущности художественного творчества. Особенно это касается средневекового периода. Но надо учитывать и то, что и само понятие произведения искусства (словесного, живописного, музыкального) обрело свой отчетливый смысл только в Новое время. Соответственно, речь, по-видимому, должна вестись о разных «эстетиках» и «поэтиках». Это обстоятельство касается и таких классических трудов, как «Лаокоон» (1766) Г. Э. Лессинга и «Эстетика» А. Г. Баумгартена (1750–1758). В первом, заметим, делаются некоторые соображения о разных типах знака (арбитрарные и природные) в разных видах и родах искусств (поэзии, драме, живописи и т. д.). Во втором труде немецким философом предполагался специальный раздел «Семиотика», вместивший учение о знаках, используемых в художественных произведениях. Однако по-настоящему творческой эта семиотика не стала, ограничившись лишь общими классификациями и философскими рассуждениями. Такая логика была доведена до предела уже в начале XX века в концепции швейцарского искусствоведа Г. Вельфлина. В книге «Основные понятия истории искусства» (1915) он сформулировал метод «история искусства без имен». На этих основаниях он выстроил целую типологию художественных стилей. Ясно, что такой подход не мог иметь отношения к глубинной сущности художественного акта, хотя и предлагал более формальные критерии изучения феноменов искусства.
Конец XIX – начало XX века стало временем перелома прежних представлений о сути искусства, о сущности художественного творчества и о природе знака. В этот момент семиотика и эстетика вливаются в единый исследовательский континуум – художественную семиотику. Под этом термином понимается не какая-то единая теория, а целая совокупность подходов к художественному объекту как системе знаков.
Основные вехи на пути становления художественной семиотики (понимаемой широко) в ХХ веке таковы (отметим лишь ключевые направления, не углубляясь в раскрывающие их концепции):
• русское гумбольдтианство и потебнианство: Д. Н. Овсянико-Куликовский, А. Г. Горнфельд;
• эстетическая (морфологическая) школа в языкознании: Б. Кроче, К. Фосслер, Л. Шпитцер, О. Вальцель;
• русский символизм: А. Белый, Вяч. Иванов;
• русский формализм: Р. О. Якобсон, Ю. Н. Тынянов, Б. М. Эйхенбаум, А. А. Реформатский, Б. И. Ярхо и др.;
• постформализм: Г. О. Винокур, М. М. Бахтин, В. Я. Пропп, В. В. Виноградов, Л. С. Выготский, В. Вейдле;
• философская семиотика: П. А. Флоренский, Г. Г. Шпет, А. Ф. Лосев;
• структурная поэтика: Я. Мукаржовский, П. Богатырев, К. Леви-Стросс, Дж. Каллер;
• семантическая эстетика: Э. Кассирер, С. Лангер, Н. Фрай;
• феноменологическая эстетика: М. Мерло-Понти, Р. Ингарден, М. Дюфренн;
• рецептивная эстетика: В. Изер, Х. Яусс, М. Риффатер;
• «тематическая критика»: Г. Башляр, Ж. Руссе, Ж.‐П. Ришар, Ж. Старобинский, П. де Ман;
• парижская семиологическая школа: Р. Барт, Ж. Женетт, А. Греймас, К. Бремон, Ц. Тодоров, Ю. Кристева;
• «новая критика» в литературоведении: К. Брукс, Р. Уоррен, Р. Уэллек, У. Уимсатт, И. Ричардс;
• структурализм в искусствознании: Г. Кашниц-Вайнберг, Г. Зедльмайр;
• семиотика искусства как таковая: Н. Гудмен, М. Шапиро, Б. Кокюла, К. Пейруте, Ф. Тюрлеманн (визуальная семиотика); Р. Барт, С. Зонтаг, Р. Линдекенс, Ж.‐М. Шеффер, Ж.‐М. Флош (семиотика фотографии), К. Метц, П. Пазолини (киносемиотика); У. Эко (семиотика архитектуры); П. Булез, Н. Рюве, Ж.‐Ж. Наттьез (музыкальная семиотика); А. Юберсфельд, П. Пави (театральная семиотика);
• информационная эстетика: А. Моль, М. Бензе, А. Н. Колмогоров, В. А. Успенский;
• Московско-тартуская школа семиотики: Ю. М. Лотман, Вяч. Вс. Иванов, В. Н. Топоров, Б. А. Успенский, Ю. И. Левин, Б. М. Гаспаров и др.;
• Лиможская школа семиотики: Ж. Фонтаний, К. де Бюзон, К. Зильберберг;
• Московско-новосибирская семиологическая школа: Ю. С. Степанов, В. З. Демьянков, С. Г. Проскурин, И. В. Силантьев, Ю. В. Шатин, О. В. Коваль.
Все подходы, разрабатывающиеся в семиотике, имеют своей целью ответить на следующие главные вопросы: 1) что представляет собой произведение искусства в ряду других объектов гуманитарного и естественно-научного знания; каковы отношения между художественным и научным познанием; 2) каким образом осуществляется художественная коммуникация; 3) как устроена структура произведения искусства; 4) какова природа художественного знака; и наконец 5) имеет ли искусство свой язык или множество языков, и как соотносятся эти языки с другими языками природы и духовного мира.
Из всех перечисленных выше авторов и направлений в изучении знаковой природы художественного произведения мы остановимся в этом параграфе на тех, которые непосредственно касаются в своих работах лингвоэстетической проблематики, то есть взаимоотношения языка и искусства сквозь призму семиотических учений46.
Родоначальники семиотики в европейской науке новейшего времени – В. Уэлби, Ч. С. Пирс, Ф. де Соссюр – не оставили после себя каких-либо размышлений о семиотической природе категории прекрасного. Пирс лишь вскользь упоминал в лекциях 1903 года о том, что эстетические ценности могут принадлежать к разряду репрезентаменов, а именно к их экспрессивному типу. В целом категория экспрессии (экспрессивности), как мы увидим далее, сыграет важную роль в новых теориях языка и новых художественных практиках ХХ века. Но в первых трудах по семиотике решаются вопросы, довольно далекие от эстетических. Факт обращения Соссюра к мифологическим и художественным текстам в поисках анаграмм не говорит ничего о его эстетических воззрениях, однако, как будет показано в следующей главе, ставит несколько вопросов об отношении художественного дискурса к языку как феномену. Обсуждение эстетических аспектов категории знака возникает у следующего после Соссюра и Пирса поколения ученых, близких к семиотике.
Структура эстетического знака: Г. Г. Шпет и концепции глубинной семиотики в России
Первенство в обращении к семиотической проблематике со стороны эстетических учений принадлежит русскому философу Г. Г. Шпету. В предыдущих параграфах мы указывали на первостепенную роль этого мыслителя в интересующей нас лингвоэстетической линии филологических исследований. С одной стороны, он являлся важнейшим преемником и проводником идей В. фон Гумбольдта в русской мысли, в том числе его ключевых идей о языке как творческом процессе и языке как искусстве. С другой стороны, Шпет сформулировал ряд постулатов, относящихся к эстетическому измерению языковой деятельности. Но кроме этого вклада в философию языка и лингвоэстетику, необходимо подчеркнуть его пионерскую роль в обсуждении семиотических вопросов эстетической деятельности. До недавнего времени Шпет как семиолог не был открыт по-настоящему, ведь лишь пятнадцать лет назад был издан основополагающий его труд по семиотике – «Язык и смысл» [Шпет 2005]. Поскольку эта роль до сих пор не была должным образом описана в истории лингвистических и семиотических учений, считаем уместным остановиться на взглядах Шпета чуть более подробно47.
Первым на значимость идей Шпета для семиотических учений указал Вяч. Вс. Иванов в «Очерках по истории семиотики», отметив, что
Шпет был первым русским философом, давшим детальное обоснование необходимости исследования знаков как особой сферы научного знания и изложившим принципы феноменологического и герменевтического подхода к ней [Иванов 1999: 681].
Наряду с П. А. Флоренским и А. Белым он был назван в числе тех, кто предпринял в первые десятилетия ХХ века попытку общесемиотического синтеза, выделив область изучения знаков в качестве особого предмета гуманитарных исследований. Особенно значимыми оказались идеи Шпета, наследующие его учителю Э. Гуссерлю, о знаках как «всеобщем слое», который определяет исходные предпосылки любого социально-исторического знания48. Отдельно были отмечены восходящие к Шпету первые попытки семиотического истолкования эстетики и этнологии.



