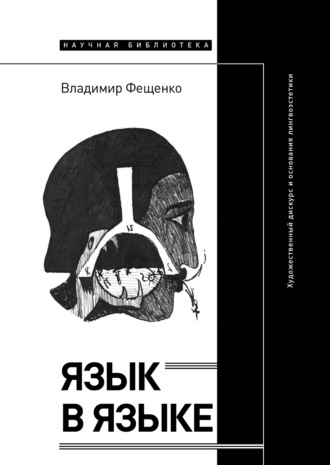
Полная версия
Язык в языке. Художественный дискурс и основания лингвоэстетики
Формулируется центральная проблема романной стилистики – «художественное изображение языка», «установка на образ языка». Целью романной гибридизации (гетероглоссии), по Бахтину, является создание «художественного образа языка» [Бахтин 2012: 90]). В формировании такого образа и состоит смысл художественной речи, отличной, например, от речи научной:
Литература не просто использование языка, а его художественное познание (соотносительно научному познанию в лингвистике), образ языка, художественное самоосознание языка. Третье измерение языка. Новый модус жизни языка [Бахтин 1996: 287].
Мы еще будем возвращаться к этим тезисным наброскам Бахтина, имеющим непосредственное отношение к предмету нашего исследования. Сейчас отметим, что само представление об «образах языка» возникает в эстетической теории слова. В наше время говорят о самых разных «образах языка», в частности научных, философских и иных. Наше дальнейшее исследование посвящено сопоставлению художественных и научных (включая философские) образов языка на материале различных концепций и поэтик последнего столетия.
Ю. С. Степанов отмечал, что «образы языка» изменчивы и «фасетны» и зависят от определенных культурных и научных констант, принятых в ту или иную эпоху [Степанов 1995б]. В череде таких «фасеток», следуя Степанову, мы можем выделить концептуальный комплекс «язык и искусство» и его вариант «языки искусства». Такой экскурс в теорию терминов и образов приблизит нас к более конкретным взаимодействиям литературно-художественных практик и лингвистических концепций последнего века.
Обратимся к контекстам из истории лингвистических и эстетических учений, в которых понятия «язык» и «искусство» выступают как операторы (взаимосвязанные понятия), по-разному сочетающиеся в зависимости от той или иной концепции. Основные сочетания этих операторов, которые мы рассмотрим, таковы:
язык не есть искусство
язык есть искусство
язык как искусство
язык и искусство
язык искусства
искусство языка
язык-искусство
языки искусства
искусство и язык
искусство как язык
искусство есть язык
искусство не есть язык
В исторической эволюции лингвистических и эстетических концепций понятия «язык» и «искусство» зачастую подвергались трансферам, то есть перемещениям из одной концептуальной системы в другую, из другой – в третью, и так далее, вплоть до возвращения в исходную концептуальную систему. При этом важную роль играли в таких процессах межъязыковые трансферы, когда термины мигрируют в другие научные культуры, видоизменяя систему-реципиента и подчас оказывая обратное воздействие на культуру-донора14.
Какими путями осуществлялся трансфер двух понятий – «язык» и «искусство» – в истории лингвистической и эстетической мысли? Рассмотрим примеры сочетания концептов-операторов «язык» и «искусство».
Язык не есть искусство. Античность и Средние века
Вплоть до Нового времени в западной гуманитарной мысли уподоблять язык искусству (и наоборот – искусство языку) было не принято. В античных теориях языка мы находим два разнонаправленных способа говорить о языке в связи с искусством. С одной стороны, более ранние концепции, основанные на принципе мимесиса, склонны уподоблять звуки речи и музыкальные звуки. У Платона в «Кратиле» встречается рассуждение о том, что в целях благозвучия поэты искажают имена, в результате чего происходит путаница с определением «истинных имен». Этого мнения придерживается в диалоге Сократ при обсуждении самого имени «искусство»:
Сократ. Такое слово, например, «искусство»: очень важно узнать, что оно значит.
Гермоген. Да, это верно.
Сократ. Не значит ли это слово «иметь ум»? Если переставить и изменить некоторые буквы, то и получится «искусство».
Гермоген. Это уж очень скользко, Сократ.
Сократ. Милый мой, разве ты не знаешь, что имена, присвоенные первоначально, уже давно погребены под грудой приставленных и отнятых букв усилиями тех, кто, составляя из них трагедийные песнопения, всячески их изменял во имя благозвучия: тому виной требования красоты, а также течение времени. Так, в слове «зеркало» разве не кажется тебе неуместной вставка этого? Однако, я думаю, это делают те, кто не помышляет об истине, но стремится лишь издавать звуки, так что, прибавляя все больше букв к первоначальным именам, они под конец добились того, что ни один человек не догадается, что же, собственно, данное имя значит. Так, например, Сфинкса вместо «Финкс» зовут «Сфинкс» и так далее [Платон].
В безусловно ироничном ключе Сократ здесь критикует языковую игру, получающуюся от того, что в имени techne поэт переставляет и убирает некоторые буквы и получает в итоге имя echonoe («иметь ум»), чем уподобляет художество и разум. Но в мировоззрении Платона (устами его учителя Сократа) украшательство речи пагубно для языка и для истинной философии. Идея о том, что «прекрасная речь делает вещи сами по себе прекрасными», претит философу. Соответственно, язык надо держать подальше от тех, кто делает его «прекрасным»15.
Аристотель рассуждает в «Поэтике» о звуках речи и звуках музыки в терминах «благозвучное – неблагозвучное». Звуки в «украшенной» человеческой речи и в музыкальном искусстве повинуются, согласно этим воззрениям, одним и тем же законам ритма и гармонии. Кроме того, Аристотель впервые объединяет понятия techne и logos. Сочетание techne tou logou употребляется как определение риторики – «ремесла слов», однако в культуру Нового времени войдет с другим смыслом – технологии как «применения метода». С другой стороны, большинство греческих авторов не считают риторику искусством, подобным музыке или скульптуре. Techne понимается скорее как применение ремесла, нежели как искусство в самом себе. Искусство в самом себе описывается термином poiesis (что корректнее переводить на русский как «творчество», см. об этом в следующем параграфе). Речь, с точки зрения греков, есть факт techne, а не poiesis.
Позднегреческие авторы, пользующиеся в своих умозаключениях принципом аналогии, оспаривают всякую связь речи и искусства, logos и techne. У Секста Эмпирика встречаем размышление о том, что речь сама по себе искусством являться не может, ибо искусство зиждется на неких началах, а обыденная речь таких начал не имеет: «искусство, касающееся эллинской речи, становилось бы безначальным и таким образом не являлось бы вовсе и искусством» [Античные теории 1936: 84]. Речь определяется, согласно такому взгляду, лишь обиходом, а не искусством. Заключение Секста таково: «обиход, служа сам по себе критерием искусства по части эллинской речи, не будет нуждаться в искусстве» [там же: 85]. Искусством в смысле techne может быть лишь грамматика. И именно такой взгляд на язык породил формулу «искусство грамматики».
У александрийских грамматиков поэзия как искусство имело меньшее значение, чем грамматика. Это представление перенеслось в дальнейшем и в римскую филологическую традицию с многочисленными трактатами с названием Ars Grammatica. Соответственно, прослеживаются следующие векторы терминологического трансфера: techne древних греков было связано только с практическим искусством овладения красноречием и воспринято латинской традицией в форме ars. Берущая же начало от Аристотеля поэтика как учение о собственно поэзии преобразовалась в римской и более поздней романской традиции в руководство по поэтическому ремеслу (что отражено в названиях трактата Горация (Ars poetica, ок. 18 г. до н. э.) и Н. Буало (L’ art poétique, 1674). Отметим, впрочем, что в стихотворном трактате Буало уже используются некоторые эстетические оценки образа языка: «очищенный язык», «убогий язык черни», «язык гордого сонета», «вы к языку должны питать благоговенье». Однако они остаются все еще в рамках дидактического стиля римской традиции. А семантика греческого poiesis как творящего действия была транслирована в средневековое представление о creatio, которое оставалось лишь атрибутом божественного творения вплоть до эпохи романтизма. Соответственно, от античности до романтизма мы не встречаем какого-либо иного соседства концептов «язык» и «искусство», кроме как в формуле «искусство грамматики или поэтики».
Искусство есть язык. Новое время и романтизм
Вероятно, первым упоминанием родства языка и искусства в эпоху Нового времени стала фраза Г. Э. Лессинга из трактата «Лаокоон» (1766) о «немом языке живописи»: «Но это то же самое, что удивляться поэтам, почему они, говоря о музах, не пользуются немым языком живописи»16 [Лессинг 1953: 428]. Этот «немой язык» противопоставляется «языку поэзии»: «Но и это на поэтическом языке не должно означать ничего больше, как необыкновенную ярость Ахилла, который ударяет копьем три раза, прежде чем успевает заметить, что врага перед ним уже нет»17 [там же: 437]. Однако в теории Лессинга эти языки – живописи и поэзии – оказываются непереводимыми друг на друга, и весь трактат «Лаокоон» посвящен границам между этими двумя языками.
Идея общего «языка искусства» стала витать в интеллектуальной среде Европы ближе к концу XVIII века. Выше нами был отмечен еще более ранний эстетический контекст словосочетания the language of forms у философа А. Шефтсбери. Еще один британский сенсуалист Дж. Беркли в сочинении 1733 года, посвященном зрению как человеческому органу познания, пользуется сочетанием «зрительный язык» (visual language), говоря о зрении как о «языке творца природы». В заметках другого англичанина поэта У. Блейка, уже близкого к романтизму, встречается сочетание «язык художественного изображения» (the language of art copy): «Выучить язык художественного изображения навсегда – мое правило»18 [The Complete Writings 1957: 446]. Согласно Блейку, с помощью «языка искусства» художник научается традиции в рисовании природы: «Никто не может рисовать, не выучив язык Искусства с помощью готовых изображений и Природы, и Искусства»19 [там же]. О «языке природы» и «языке искусства» говорит другой, уже убежденный, романтик Новалис в одном из своих «фрагментов»: «Общий язык – язык природы – литературный язык, язык искусства»20 [Novalis 2012: 76]21. По словам еще одного немецкого романтика В. Г. Вакенродера, Природа и Искусство суть два языка, подаренных человеку Богом:
Язык словесный – великий дар небес <…> Искусство есть язык совсем иного рода, нежели природа; но и ему присуща чудесная власть над человеческим сердцем, достигаемая подобными же темными и тайными путями22 [Вакенродер 1977: 66–68].
Такие новые представления о «языке искусства» и «языке природы» покоились на философском постулате эпохи романтизма, сформулированном Ф. Шлегелем в статье 1795 года «Письма о поэзии, просодии и языке»: «все, посредством чего внутреннее проявляется во внешнем, можно назвать правильным языком»23 [Schlegel 1962: 152]. А значит, считал романтик, искусство (поэзия, живопись) могут также именоваться особыми языками (Kunstsprache). По мнению Н. Хомского, подобное представление о языке позволяет сделать короткий шаг к установлению связи между «творческим аспектом языкового употребления и подлинным художественным творчеством» [Хомский 2005: 46]. Романтики действительно сделали важные шаги по осмыслению языка как творческого медиума в поэзии, что позволяет современным исследователям говорить даже о «перформативном» измерении слова как действия в трудах романтиков [Esterhammer 2002]. Именно эти представления легли в основу дальнейших теорий языка как творческого действия.
Повлияли эти идеи и на становление, казалось бы, совсем иного типа лингвистического учения, а именно – на теорию языка Ф. де Соссюра, как показано в исследовании [Gasparov 2013]. В частности, соссюровский постулат о «языке, рассматриваемом в самом себе и для себя» согласуется с воззрениями романтиков о «самодеятельной», «самосозидающей» природе языка. Б. М. Гаспаров справедливо возводит эту идею к «Монологу» Новалиса с его утверждением, что «подлинная природа языка заключается в том, что он занят только самим собой» [цит. по: Gasparov 2013: 103]. Язык, согласно немецкому романтику, подобен математической формуле и представляет собой особый, отдельный мир. Именно в силу своей экспрессивности язык уподобляется искусству.
Возводя корни соссюровского учения к раннему немецкому романтизму, Гаспаров, однако, не упоминает важное звено в этом наследовании. Проводником идей романтизма в лингвистике был, разумеется, прежде всего В. фон Гумбольдт, также писавший о «самодеятельном возникновении языка из самого себя». И хотя в целом идеалистическое направление в языкознании было Соссюру чуждо, он несомненно ориентировался на труды немецкого классика, пусть и в критическом ключе. Представление о самоценности языка объединяло воззрения таких, казалось бы, далеких друг от друга ученых, как Гумбольдт и Соссюр, А. А. Потебня и Р. О. Якобсон24. Для целей нашей книги эти исторические связи романтизма и новых теорий языка важны, поскольку они предвосхищают подходы к языку как творческому процессу и динамической системе в новейшее время (к этим подходам мы обратимся в п. 2 настоящей главы). Более того, эти воззрения романтизма получают новую актуальность в лингвоэстетическом повороте (см. далее, п. 3 настоящей главы).
Язык как искусство. В. фон Гумбольдт и гумбольдтианство
Из шлегелевского постулата формируется концепция главного романтика от языкознания – В. фон Гумбольдта. При этом вопросы языка искусства и языка литературы занимают у Гумбольдта немаловажное место, формируя новый терминологический комплекс, составляющими которого служат понятия языка и искусства.
Гумбольдт впервые обращается к проблеме лингвистической природы поэзии в главке «Характер языков. Поэзия и проза» своего известного труда «О различии строения человеческих языков и его влиянии на духовное развитие человечества», переходя от рассмотрения частных сторон взаимодействия в языке к более общим. Он отмечает, что существуют «два проявления языка, где все эти стороны не только самым решительным образом сходятся, но и само понятие частности утрачивает смысл из‐за преобладающего влияния целого. Это – поэзия и проза» [Гумбольдт 2000: 183]. Таким образом, поэзия и проза выделяются им в специфические формы существования и функционирования языка, в которых доминантным становится «преобладающее влияние целого», то есть их особая организованность с определенными целями. Гумбольдт называет поэзию и прозу «проявлениями языка», предопределяемыми его «исконным укладом» и постоянным воздействием на их развитие. Причем тяготение к поэзии и прозе связывается им с «незаурядностью формы конкретного языка», то есть «одинаковому развитию той и другой в соразмерном соотношении». В духе романтического идеализма богатство и совершенство языка определяется здесь развитостью именно обеих форм бытования языка и развитостью «интеллектуальной сферы». Развитость интеллектуальной сферы связывается им с многообразием «проявлений языка»: «Язык литературы может процветать, лишь пока его увлекает за собою духовный порыв, стремящийся расширить сферу своего действия и привести мировое целое в гармоническую связь со своим собственным существом» [там же: 189]. Художественная литература, согласно немецкому лингвисту, является высшим и наиболее гармонично организованным проявлением языка.
В. фон Гумбольдт устанавливает далее следующее соотношение: обыденная речь – научная речь – прозаическая речь – поэтическая речь. В отличие от обыденной речи, прозаическая и поэтическая речь («возвышенная речь», которая после Гумбольдта объединяется в понятие «художественной речи») имеет «внутреннее формальное строение». Однако, отмечает он, для поэзии всегда существенно необходима внешняя художественная форма. Это диалектическое единство и будет в дальнейшем положено в основу лингвистической поэтики и вместе с тем заложит принципы поэзии ХХ века. Но сам немецкий лингвист не идет далее сопоставления поэзии с музыкой и посвящает основное свое внимание историческим истокам прозы и поэзии, а также разграничению научного, философского и поэтического стиля в формах языка. Это направление будет продолжено его русским последователем А. Н. Веселовским в «исторической поэтике» и А. А. Потебней в «поэтике теоретической», в изучении «поэтического и прозаического мышления».
В одной из менее известных статей «О национальном характере языков» (1822) Гумбольдт опять-таки в русле романтической парадигмы уподобляет язык искусству [Humboldt 1963]. Даже чтобы понять искусство, которое осуществляется не через язык, язык необходим, пишет он. Язык, как и искусство, создает представление о невидимом. Поэтому, считает Гумбольдт, можно говорить о «языках искусства» (Sprache der Kunst)25. Но формула «язык искусства» претерпевает перестановку у Гумбольдта, когда он пишет в своих Aesthetische Versuche о поэзии как «искусстве языка» (die Kunst durch Sprache) [цит. по Шпет 2007: 367].
Гумбольдтианство принимает аналогию между языком и искусством, доводя ее до абсолюта в тезисе о том, что язык вообще является искусством и творчеством. Эта эволюция запечатлевается в формуле «язык как искусство» и «язык как творчество». В частности, трансфер этой идеи из немецкой в русскую концептуальную культуру заметен на примере названий трудов Г. Гербера (Die Sprache als Kunst, 1885), Д. Н. Овсянико-Куликовского (Язык как искусство, 1895), К. Фосслера (Sprache als Schöpfung und Entwicklung, 1905) и потебнианца А. Л. Погодина (Язык как творчество, 1913)26.
Романтическая идея о «языках искусства» возникает и у В. Беньямина – философа, далекого от гумбольдтианства, но не от романтической парадигмы в целом – в его эссе 1916 года «О языке вообще и языке человека». Исходя из романтистской мысли о том, что языковая сущность вещей есть их язык («то, что у духовной сущности сообщаемо, и есть ее язык»), немецкий философ приходит к рассуждению о языках искусства как сущностных языках вещей и материалов:
Существует язык скульптуры, живописи, поэзии. Подобно тому как язык поэзии в том или ином смысле имеет основание в человеческом языке имен, пусть и не только в нем, вполне мыслимо и то, что язык скульптуры или живописи имеет основание, например, в разнообразных языках вещей, что в них присутствует перевод языка вещей на бесконечно более высокий, хотя и принадлежащий, скорее всего, к той же сфере, язык. Речь идет о безымянных, неакустических языках, о языках из материала; при этом имеется в виду материальная общность вещей в их сообщении [Беньямин 2012].
Формы искусства трактуются как языки во взаимосвязи с природными языками. Беньямин особо подчеркивает знаковую природу языков искусства:
…очевидно, что язык искусства можно понять лишь в его глубочайшей связи с учением о знаках. Без последнего всякая вообще философия языка остается полностью фрагментарной, потому что связь между языком и знаком (связь между человеческим языком и письмом – лишь отдельный ее пример) изначальна и фундаментальна [там же].
Языки искусства. Символизм и авангард
Гумбольдтовская формула «язык искусства» (вариант: «язык как искусство») обрела новое хождение в текстах русского символизма и авангарда, уже в переосмысленном и более материальном виде.
Одновременно с ранними поэтическими опытами гумбольдтианец А. Белый теоретически осмысляет этот революционный поворот отношения к языку. В статье 1902 года «Формы искусства» читаем:
Перевод действительности на язык искусства <…> сопровождается некоторой переработкой. Эта переработка, будучи по своему внутреннему смыслу синтезом, приводит к анализу окружающей действительности. Анализ действительности необходимо вытекает из невозможности передать посредством внешних приемов полноту и разнообразие всех элементов окружающей действительности [Белый 1994: 90].
Поэзия понимается Белым как «узловая форма, связующая время с пространством» [там же: 91], соответственно, язык поэзии аккумулирует в себе элементы всех прочих форм искусства и знания.
Тезис о том, что «слово само по себе есть эстетический феномен» [Белый 2006а: 205], перенимается А. Белым у А. А. Потебни. Белый был внимательным читателем харьковского ученого-лингвиста и воспринял от него представление о языке как о носителе непрерывного творчества мысли. Поместив потебнианские положения в собственно эстетический контекст, Белый придал им определенную обоснованность, равно как и немало поспособствовал привнесению достижений лингвистической мысли в область художественного творчества. От декларирования автономности слова-символа Белый, вслед за Потебней, делает очередной теоретический шаг, состоящий в том, что «из объединения внешней формы и содержания провозглашается единство формы и содержания как в словесном, так и в художественном символе» [там же: 207]. Делая такой вывод из изложения идей Потебни, Белый предваряет и обосновывает один из главных лозунгов русского символизма. Одновременно закладывается основа для понимания лингвистической природы художественного знака – как синтетической формосодержательной единицы.
У М. Волошина встречаем формулу «язык искусства» в эссе «Индивидуализм в искусстве», где уподобляются и различаются язык обыденный и язык художественный:
В искусстве, кроме языка демотического, общедоступного, которым пользуются все, есть еще другой, скрытый язык – язык символов, образов, который в сущности и составляет истинный язык искусства независимо от подразделений искусства на речь, на пластику…
Мы все пользуемся этим языком бессознательно. Но у этого языка есть свои законы и уставы, настолько же нерушимые, как законы и уставы грамматической речи.
Этот гиероглифический язык искусства развивается медленно, постепенным накоплением и постепенным изменением, и внутреннее чувство художника так же протестует против варваризмов новых символов, как и против варваризмов языка [Волошин 1988: http].
Любопытно, что мысль русского поэта задолго предвосхищает на сущностном и даже на словесном уровне идею Ю. М. Лотмана об искусстве как «вторичной моделирующей (знаковой) системе»:
Канонические формы искусства в своей сущности сводятся к законам этого гиератического языка образов. И работа их развития идет так же бессознательно, как и работа над развитием языка.
Искусство в настоящее время может говорить только этим двухстепенным языком, и признание этого вторичного языка символов и образов есть уже признание канона [там же].
Художник и теоретик искусства В. Кандинский посвящает трактаты и статьи описанию грамматики нового языка искусства, каким для него выступает абстракция («язык форм и красок»):
И, разумеется, чем больше художник пользуется этими абстрагированными или абстрактными формами, тем свободнее он будет чувствовать себя в их царстве и тем глубже он будет входить в эту область. Также и зритель, которого ведет художник, приобретает все большее знание абстрактного языка и, в конце концов, овладевает им [Кандинский 1992: 55].
Живопись – это язык, который формами, лишь ему одному свойственными, говорит нашей душе о ее хлебе насущном; и этот хлеб насущный может в данном случае быть предоставлен душе лишь этим и никаким другим способом» [там же: 102].
Кандинский применяет понятие языка к разным искусствам: «язык музыки», «язык балетных движений», «живописный язык»27. Пользуется этой формулой и К. Малевич в трактате 1924 года:
Искусство всюду равно. Нет в Искусстве ни грамотного, ни неграмотного, народное творчество всегда будет свидетельством тому, что в Искусстве народ всегда грамотен был, есть и будет. Но никогда не будет грамотен по любому учебнику, никогда ему, народу, не будет противен язык Искусства, но всегда противна грамотность и учеба [Малевич 2014: 196].
Понятие «языка искусства» становится аксиомой для целого ряда авангардных художников, поэтов и теоретиков. Так, композитор А. Скрябин уподобляет законы музыки законам языка. Л. Сабанеев приводит по памяти мысль композитора, которая резонирует с воззрениями античных философов о подобии звуков речи и звуков музыки: «В языке, – говорил Александр Николаевич, – есть законы развития вроде тех, которые в музыке. Слово усложняется, как и гармонии, путем включения каких-то обертонов. Мне почему-то кажется, что всякое слово есть одна гармония» [Сабанеев 2003: 290]. Другой композитор русского авангарда, А. Авраамов, размышлял о «языках искусства» как о различных художественных методах:
Скажу просто: линия, звук, краски, объемные формы, все материалы, из которых искусство строит свои великолепные здания – суть лишь различные алфавиты, не более; когда хаос разложен достаточно глубоко, когда найдены законы, ими управляющие, они могут стать для человека-художника языком, на котором он сумеет передавать более тонкие движения духа, недоступные варварскому языку условных звукосочетаний, раз навсегда связанных с определенными «понятиями» <…> [Авраамов 2006: 458].



