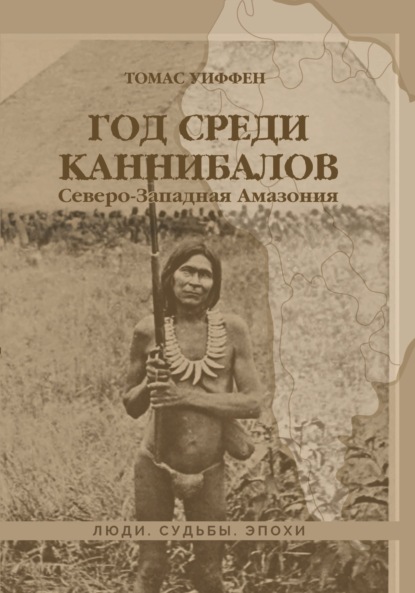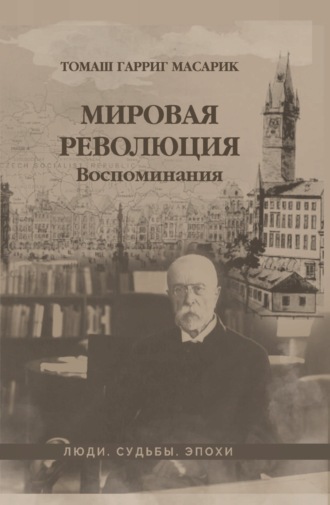
Полная версия
Мировая революция. Воспоминания
Из Венеции, с остановкой во Флоренции, я отправился в Рим, куда и прибыл 22 декабря. Вспомнилось мне мое первое путешествие в Италию в 1876 г.; тогда я осматривал каждый более или менее значительный город северной и средней Италии – как на меня тогда действовали многочисленные надписи, говорящие о тирании Австрии! Тогда я жил Возрождением, Италия была для меня школой и музеем искусств; позднее в Италии я жил античным миром, хотя мог продумать и прочувствовать и христианство. Итальянское Возрождение прельщало меня странной смесью христианства и античности, несмотря на то, что этот синтез начался, собственно, с основания церкви. Христианство было против античного мира, но волей-неволей не только сохранило, но и закончило его; каждый раз я снова убеждаюсь, что Август был, собственно говоря, первым папой. Посмотрите на главу Януса – Фомы Аквинского – Аристотеля! Принятию римского права, о котором так часто говорят, предшествовало принятие античного мышления и культуры. Этот особый переход Рима в католицизм в Италии можно легко проследить в изобразительных искусствах, особенно в архитектуре (Пантеон!), и он действовал на меня сильнее, чем современные теологи, доказывающие этот синтез или синкретизм на основании литературных памятников.
А сам католицизм, церковь и папство, это великолепное продолжение и завершение Римской Империи, есть дело рук не только Рима, но и его продолжателей итальянцев. Католичество есть дело романского духа; ведь и иезуитизм, основа неокатоличества, пришел из Испании. В Италии были люди удивительной духовной и религиозной силы и вне рамок церкви – Святой Франциск Ассизский, Савонарола, Джордано Бруно, Галилей.
Но поэтому интересна и современная Италия. Из новейших мыслителей привлекал меня гениальный Вико, его философия общества и истории, его психологический разбор общественных сил и их влияния, его проникновение в дух римского права и всей культуры. Вот снова постоянный синтез католичества и античного мира, ибо Вико был священником и при том философом истории, первым современным социологом. Католицизм своей долголетней церковной традицией вел неизбежно к философии истории – до Вико был Боссюэ и иные.
Итальянское «risorgimento» (восстановление) уже по своему названию и по времени близко к нашему возрождению; с политической точки зрения оно должно нам быть симпатичным, как национальное освобождение и единение. Здесь снова возникает важная проблема государства и церкви; целый ряд выдающихся мыслителей новой Италии ломали себе голову над судьбой и задачей папства в единении Италии. Меня занимали в этом вопросе Розмини и Джоберти, оба священники и сильные мыслители; они были интереснее итальянских кантианцев и гегельянцев. Также противник двух предшествующих – Мамиани, очень интересен в том, как он приспосабливается к обоим; у всех трех чувствуется итальянское сердце и интерес к вопросам Италии после французской революции. Единение в конце концов было направлено против папы. 1870 год памятен для Италии, да и не только для нее: в июле собор провозгласил новый догмат – непогрешимость папы, а через несколько недель итальянское войско заняло папскую территорию, плебисцит 153 000 голосов высказался за присоединение папского государства к Италии, лишь 1507 голосов было за старый порядок. Ради сохранения папского государства католические страны не пошевельнули и пальцем – таков был конец светского владычества церкви и главы теократии. Возобновление схоластики и изучение Фомы Аквинского Львом XIII не смогут спасти средние века. Естественно и логически я связывал мои надежды на падение Тройственного союза с этим мировым событием.
Вовсе не случайность, что новейшая философия в Италии усиленно изучает социологию и всевозможные общественные явления. Кроме философии истории, имеющей богатую и долголетнюю традицию, содержанием нового итальянского мышления является затруднительный вопрос о народонаселении, ведущий к колонизационной политике, вопросы об индустриализации севера, о культурном пробуждении в центре и на юге, о подлинном практическом единении Италии, а в связи с ним и о все возрастающем национальном и политическом самосознании.
В Италии проблема революции представала предо мною в различных формах, особенно же в виде политических покушений и тайных обществ; Маццини и его философия – вот живой источник для размышлений о революции.
Новой итальянской литературой я стал заниматься довольно несистематически, начиная с Леопарди из-за его пессимизма, который занимал меня с самой юности, как проблема современности. От него к Маццони уже недалеко, несмотря на то, что последний проповедовал христианство (Манцони был приверженцем Розмини) – оба ведь романтики и родоначальники новых направлений в итальянской поэзии. Затем я перескочил к д 'Аннунцио, на котором выяснял декадентство и его отношение к католицизму. Может показаться непонятным, почему от д'Аннунцио я вернулся к Кардуччи, но между ними органическое единство – святотатственный «Гимн Сатане» Кардуччи делает его естественной частью того, что называется декадентством. Я буду об этом говорить подробнее в главе о Франции. Мне еще хочется только добавить, что политические выступления д’Аннунцио очень подходят к тщетным попыткам заполнения его декадентской духовной пустоты. Переход романтизма в веризм[1], а потом наиновейшие футуристы и подобные бунтари характеризуют духовный кризис не только новой Италии, но и всей Европы. В Италии, так же как и в иных местах, против литературной анархии выступают литературные врачи, советующие возвращение, один к Данте, другой к Леопарди и т. д. – по всей вероятности, врачи подвержены тому же головокружению, что и пациенты.
Все это, но гораздо обстоятельнее я представлял себе, когда был в Риме и мучился над вопросом, пойдет ли Италия против союзников с Австрией и Германией. Нет, это невозможно, таков был всегда вывод моей философии итальянской истории и культуры.
В Риме были послы, часто даже два (и у Ватикана) всех государств; таким образом, здесь была возможность добыть сведения и завязать сношения. Прежде всего я обратился к сербскому послу Любе Михайловичу и югославянским политикам. Заграницей были уже югославянские депутаты и известные люди, их количество все возрастало. Я был единственным чешским депутатом, и мне это было неприятно, потому что на депутата на Западе люди смотрят скорее как на политика, чем на профессора (на моей визитной карточке было написано: Профессор Т. Г. Масарик, Depute Tcheque, President du Groupe Progressiste Tcheque au Parlement de Vienne – никогда в жизни на родине и без войны я не придал бы себе таких титулов!). В Риме в то время политической силой был также Местрович, потому что итальянцы (с выставки в Венеции весной 1914 г.) его признали и ценили как скульптора; совместно с ним действовали в Риме д-р Л. Войнович и профессор Попович. Из депутатов политиков здесь был д-р Трумбич, д-р Никола Стоянович (депутат от Боснии и Герцеговины) и иные. Супило был в Лондоне; по счастливой случайности он был при объявлении войны в Швейцарии, а потому он сразу и остался заграницей. Из словинцев был в Риме д-р Горичар, бывший чиновник консульства в Америке, и д-р Жупанич из Белградской библиотеки. Собрания у посла Михайловича назначались поздно ночью из-за нас, приехавших из Австрии, чтобы австрийские агенты не могли проследить нас.
Мы разобрали общее положение и договорились о тесной совместной работе. Из отдельных вопросов югославян в Риме занимал коридор между Словакией и Хорватией; я держался мнения, что этот план можно предать гласности только по тактическим соображениям. Многие югославяне этот план принимали; Трумбич был очень сдержан, отдавал вопрос на решение чехов.
В Италии начиналась агитация за «Dalmazia nostra»; я был на лекции одного далматинского итальянца, лектора и публициста в Англии. Тотчас же, как и позднее, я беседовал с этими антиславянскими политиками (например, с редактором Дуданом), чтобы ознакомиться с их аргументацией. Я увидел, что итальянцы из Италии (в отличие от итальянцев из ирреденты) думали о Далмации мало; Триест, Азия, Африка (колонии) и Тридент – Триест гораздо больше, чем Тридент – были предметами мечтаний. Я советовал югославянам, чтобы они тоже выступили публично и начали хорошо организованную пропаганду; я полагал, что, несмотря на значительные затруднения, им бы удалось привлечь на свою сторону часть политиков и общества. Я заметил, что итальянским народом руководил не империализм, а наследственная антипатия к австриякам. Поэтому он был гораздо менее настроен против немцев (имперских). Кроме того, на итальянцев подействовало и насилие над Бельгией, несмотря на то, что Италия не давала обязательства поддерживать бельгийский нейтралитет. Источником империализма является не народ: монархи, генералы, банкиры, принцы, профессора, журналисты, интеллигенция – вот авангард и армия империализма. Уместно вспомнить, что Италия в 1913 г., когда Австрия соблазняла ее напасть на Сербию, два раза отклонила это предложение.
В Италии было много людей, которые считали, что война – дело, касающееся скорее французов, русских и немцев, чем итальянцев; я часто слышал аргумент, которым теперь пользуется Нитти, что война – борьба между Германством и Славянством. Отсюда можно было черпать доводы и за нейтралитет, и за немцев против славян, т. е. за «Dalmazia nostra».
Я сказал уже, что почти завидовал югославянам, ибо у них за границей было столько политических деятелей; при ближайшем наблюдении в Риме я, однако, заметил, что им грозят распри. Хотя у них всех была одна программа: единение трехименного народа, но эта хорошая и разумная программа не была подробно разработана. Это было сразу заметно из всех разговоров. Кроме того начал чувствоваться старый спор между сербами и хорватами. Сербский посол стоял весьма решительно за единение и был в весьма хороших отношениях с хорватами; но мне казалось, что некоторые хорваты чрезмерно подчеркивают культурное значение хорватов, в то время как в данный момент и в течение всей войны, прежде всего дело шло о политическом и военном руководительстве.
Мои югославянские друзья знали, что я представлял себе их национальное единение, руководимое в политическом отношении сербами; я представлял себе это единство как плод продуманной и постепенной административной унификации различных югославянских земель, привыкших к своим административным и культурным особенностям.
Внешне югославяне выступили с протестом против Тиссы, который тогда (в декабре 1914 г.) похвалил с агитационной целью хорватов за верность и храбрость в боях за общее отечество; протест (в Corriere della Sera) был подписан Хорватским Комитетом. Это выражение было употреблено для того, чтобы Вена и Будапешт не могли мстить семьям отдельных лиц, если бы последние подписались лично. В то время между югославянами шли разговоры об «адриатическом легионе», как о югославянском комитете; по крайней мере, в январе 1915 г. были изданы некоторые его заявления. В этом отношении югославяне были впереди нас. Для меня это было достаточным доводом, чтобы требовать приезда из Праги ко мне депутатов и журналистов.
12
Из поляков встретил я профессора М. Лорета, а также познакомился с датским писателем Расмуссеном (германофилом).
С русским посольством я имел малую связь, я встречался лишь с некоторыми чиновниками (Хвощинским и военным атташе Энкелем); посол не обладал влиянием ни в Риме, ни у себя на родине; более интересным для меня был Гире (черногорский). И позднее я никогда не тратил времени с людьми, которые имели лишь официальное положение: наши сперва удивлялись, когда замечали, что я не ищу знакомства с тем или иным министром или депутатом. Из историко-публицистической литературы мне были известны ценность и значение политических деятелей разных стран, и повсюду на месте я получал сведения о размерах их действительного влияния.
Я упомянул о Сватковском, с которым завязал сношения еще будучи в Праге. Он был в Вене начальником телеграфного агентства для Австро-Венгрии и Балкан. Я знал его много лет; я с ним много не работал, не желая вредить ему в его официальном положении. Вскоре после моего возвращения из Германии он послал ко мне свое доверенное лицо, а я тем же путем сообщил ему, что приеду в половине декабря в Рим. Сватковский был родом чех, как показывает уже сама фамилия (по-русски она бы произносилась – Святковский); он, по преданию, был потомком Сватковских из Доброхошта, принявших участие в восстании 1618 г.; после конфискации имущества его предки эмигрировали в Саксонию, а оттуда в Россию. Отсюда проистекал его искренний интерес к нашему делу. Он ждал уже меня в Риме. Русские потерпели поражение в Восточной Пруссии, и шли толки об изменниках в войске и в министерстве; Сватковский знал много подробностей обо всем деле Мясоедова и удивил меня резкой критикой официальной России и армии. Он был вполне согласен с моей критикой России и разделял мои опасения относительно нее; с пражским русофильством он не был согласен и характеризовал русского великого князя на пражском троне весьма определенно («шампанское, француженки-любовницы» и т. д.). Мы внимательно рассмотрели все положение; я убедился, что могу доверять Сватковскому, и сообщил ему свои планы. Он, в свою очередь, сообщил об этом в Петроград. Из Италии он мог спокойно писать в Петроград. Послом (Крупенским) он не хотел для этого пользоваться, во всяком случае, не одним им; он был о нем не слишком лестного мнения. После нескольких бесед он послал в Петроград подробный меморандум, резюмирующий все мои взгляды и планы. Таким образом, Сазонов получил от меня второй меморандум. Первый от Сетон-Ватсона в октябре 1914 г., второй от Сватковского в январе 1915 г. Вообще, должен сразу отметить, что с русскими послами и другими лицами я был в постоянных сношениях. Сватковский обосновался в Швейцарии, откуда постоянно сносился с Россией и с русским фронтом; в Швейцарии мы часто виделись, позднее он приехал за мной в Париж. Эта моя тесная связь с Россией с самого начала может послужить объяснением, почему я лично не торопился в Россию. Наши люди в России и в иных местах об этом ничего не знали и некоторые даже видели в этом мое «западничество» и отвращение к России. В действительности я и с Россией был в постоянном общении; но в зависимости от всего положения мое присутствие на Западе было необходимее, так как здесь у нас не было политических связей и нужно было добиваться понимания нашего плана. Я уже дома ожидал, что судьбы Европы будут решаться на Западе, а не в России, и это предположение, благодаря моей жизни в западных государствах, становилось для меня все очевиднее и очевиднее.
13
С французами я решил вести переговоры позднее, когда ознакомлюсь с местными условиями в Париже, а потому с французами в Риме постоянных сношений не поддерживал. Кроме того, я предполагал, что Париж уже прежде был обработан лучше, чем это оказалось в действительности.
С английским послом (им был тогда сэр Джеймс Ренелль-Родд) я несколько раз имел совещания; он мне помог переслать в Лондон письма.
В Берлине (по пути в Голландию) я сговорился о встрече с Бюловым, который стоял во главе немецкого посольства в Риме; политик, хорошо знавший Бюлова, устраивал мне этот разговор. Мне хотелось переговорить с каким-нибудь немецким официальным политическим деятелем, но Бюлов все извинялся, что ему некогда! В то время в Риме поговаривали, что он старался вовлечь Италию в войну на стороне центральных держав; он предлагал Италии итальянские части Австрии, а это раздражало Вену. В Вене вообще казалось подозрительным отношение Италии и Германии.
С итальянцами, особенно официальными лицами, я встреч не искал. Я должен был предполагать, что австрийское, а быть может, и немецкое посольства следят за мной, а потому я не имел права никого компрометировать, так как ведь Италия была нейтральной. Вспоминаю, однако, об одной сцене. Как-то раз вечером я навестил историка и публициста проф. Ломброзо (издавал Rivista di Roma); милый профессор был поражен моим появлением – он прочел в начале войны в газетах, что я был убит в Праге, и, как аккуратный регистратор, занес в соответствующую рубрику «Масарик» статью о моей смерти. – «Будете долго жить!»
Рим меня утешил: итальянцы останутся нейтральными, они не пойдут с австрийцами, а скорее против них; таков был результат моих наблюдений и сведений. Италия не пойдет против Англии, а с Францией у нее был тайный договор уже в 1902 г. (1–2 ноября), обязывавший ее к нейтралитету в случае войны; в данной войне Германия, объявив войну Франции и России, едва ли действовала в духе договора тройственного согласия, установленного для защиты. Австрия по отношению к Италии была прямо нелояльна, не осведомив ее о своих шагах против Сербии, несмотря на то, что 7-й параграф договора этого требовал. В этом выражалось неуважение Вены к Италии, которое она проявляла в течение всей войны. Поэтому Италия уже 31 июля заявила о своем нейтралитете. Высадка в Валоне предвещала активное выступление на стороне союзников, но в то же время предвещала конфликт из-за Балкан, главным образом из-за Югославии.
В декабре 1914 и в январе 1915 года велась сильная агитация за участие Италии в войне; начиналась резкая полемика с Джиолитти, который как будто стоял на стороне Германии и Австрии. В действительности, как я слышал от хорошо осведомленных лиц, он был против войны, полагая, что от Австрии можно будет добиться необходимых уступок и без войны; но он не был за мир во что бы то ни стало, в особенности если Австрия не уступит Италии. Я не ожидал, чтобы она уступила – Вена была слишком чванная и Италии не боялась. Было известно, что особенно военные (Конрад фон Гетцендорф) желали войны с Италией, несмотря на тройственное согласие. Эренталю было трудно защищаться против Конрада; в Италии, как я мог убедиться, все это было известно.
14
Ватикан в начале войны был, бесспорно, австрофильски и германофильски настроен. Из австрийского посольства при Ватикане (граф Пальфи) и в Квиринале (Маккио) распространялись сведения, что и папа Бенедикт XV настроен против Сербии и за Австрию. У меня были совершенно точные данные о графе Пальфи. Австрия, так заявил он в Риме, католическое государство по преимуществу, оно является защитником церкви, главным образом против православия. Граф Пальфи подчеркивал, что не только государственный секретарь, но и сам папа безусловно одобряет выступление против Сербии.
Австро-Венгрия была в Европе единственным большим католическим государством, и заранее можно и должно было ожидать, что Ватикан будет на стороне Австрии. Ватикан знал, что австрийский католицизм – это «болото» (так о нем отзывались крупные католические органы печати в Германии), но его надеждой был католицизм немецкий, который, благодаря своей жизненности и политической силе (центр), мог бы повести за собой австрийских и венгерских католиков. Действительно, центр и главным образом его деятельный политик Эрцбергер с самого начала войны играли выдающуюся роль благодаря своей пропаганде и политической инициативе. Кроме того, решающее значение имело личное хорошее отношение Франца Иосифа к папе.
Но положение Ватикана во время войны определялось не только в зависимости от Австрии и Германии, но и в связи с католиками другой воюющей стороны. Если мы будем смотреть на принадлежность к церкви воюющих сторон с чисто статистической точки зрения, то на стороне союзников во время войны было больше католиков, чем у Австрии и Германии; уже из-за этого Ватикан был принужден действовать весьма осторожно, что на практике выражалось в постоянной неопределенности. Отсюда же постоянные споры между политическими деятелями – католиками о действительном мнении Ватикана и объяснения, которые ватиканская печать и сам государственный секретарь Гаспари должны были давать папским словам. Но политика Ватикана зависела не только от количества; так, например, юго-американские республики, высказавшиеся против центральных держав, не имели такого веса, как европейские народы и католические государства. Ватикан был в особенно затруднительном положении по отношению к Франции; дошло даже до того, что французские епископы во время войны высказались против Ватикана и папы.
Благодаря тому, что Италия стала на сторону союзников, положение Ватикана еще более осложнилось; этим можно объяснить, что в течение войны Ватикан утратил свое австрофильство; к этому вели и отношения с Бельгией (кардинал Мерсие).
Интересно было наблюдать, как действовали католические вожди обеих сторон. Народная точка зрения имела большее влияние, чем религия. Вспоминаю тот меморандум, который подали немецкие католики в начале сентября (1914 г.) в Рим; против него выступили французские католики в начале 1915 г.; в противовес этому ответу немцы издали новую записку. Несмотря на эти и иные споры, Ватикан внешне сохранял объективность; ему это удавалось главным образом благодаря тому, что он избегал жгучих современных вопросов, а удовлетворялся общими рассуждениями о своем божественном назначении. Особенно Ватикан специализировался на роли миротворца; поэтому католическая пропаганда во всех воюющих землях имела целью осуществление скорого мира. При создавшемся положении это было главным образом на пользу немцам в Англии и Америке.
От официальной политики Ватикана необходимо отличать личное миросозерцание того или иного папы, отдельных кардиналов и лиц из различных ватиканских учреждений. В течение всей войны я весьма внимательно следил за политикой Ватикана. Через Штефаника я даже завязал с ним сношения; при этом я ни на минуту не забывал поговорки «qui mange du раре en meurt».
В Риме я на всякий случай договорился о бегстве из Триеста в Италию. Иногда я все же еще думал, что на короткий срок вернусь в Прагу; мне хотелось там поддержать наших и снова подвергнуть разбору весь план в связи с приобретенным мною в Италии опытом. Мне также хотелось спрятать часть моих книг (с заметками и некоторые pretia affectionis). Я не сомневался, что, как только выяснится, что я остаюсь за границей, на мою квартиру явится полиция; на этот случай я приготовил для нее письмо, сообщающее, что она не найдет ничего интересного в политическом отношении, так как важные политические документы я хорошо припрятал.
11 января, посетив в последний раз любимый Пантеон, я выехал из Рима в Женеву; знакомый наш чиновник, итальянский дипломат, отвез нас вдоль моря (Сиена – Пиза – Сестри – Леванте) автомобилем в Геную, а из Генуи путь шел уж по железной дороге.
III
На родине Руссо (Женева, январь – сентябрь 1915)
15
В Риме еще продолжался подготовительный период моей работы: теперь же должен был начаться творческий. Швейцария была для этого весьма удобна, хотя бы по своему географическому положению; она была по соседству с дружескими и неприятельскими землями, между прочим и с Австрией, так что связь с Прагой была сравнительно легка. Далее, в Швейцарии как в политическом убежище я мог встретиться с эмигрантами остальных народов.
В Швейцарии мне были доступны все, главным образом неприятельские газеты, немецкая и австрийская публицистика, особенно же политическая и военная; само собой разумеется, что мы получали и свои газеты. Для нас это было огромным преимуществом: по газетам мы могли следить за развитием событий на родине и во всей Австрии; в борьбе против австрийской и венгерской пропаганды это было неоценимое оружие. В Женеве и в Цюрихе можно было купить все нужные книги, журналы и карты; это продолжалось и позднее, я выписывал из Швейцарии то, чего мне не хватало в Лондоне или в Америке.
А всего этого нужно мне (а также и для моих друзей) было немало; я привык при точном политическом наблюдении чтение повременной печати дополнять политической и исторической литературой; я всегда интересовался литературой главных государств в целом, включал туда и изящную литературу, чтобы понимать политическое развитие в связи с единой материальной и духовной жизнью. У меня скоро образовалась недурная военная библиотека.
В Швейцарии была и наша колония, в Италии же ее не было; было, значит, необходимо информировать ее о положении вещей на родине, объединить общей программой группы, разбросанные по разным городам и организовать их для совместной работы. В Женеве нашлись сразу энергичные помощники: д-р Сихрава, инженер Борачек, студент Лавичка, позднее Божинов, Кийовский и другие. На д-ре Сихраве лежали тяжелые обязанности журналиста (у нас не было газетных работников, а с родины статья в наши заграничные газеты не доходили); кроме того, он должен был наблюдать за всею службой связи с Прагой.
В это же время был в Монтре граф Лютцов; я не пошел к нему, чтобы не компрометировать его, но он знал о моей деятельности и, как позднее мне сообщили общие друзья в Англии, одобрял ее, а особенно мою русскую политику.
Едва я устроился в Женеве, как начали приходить от семьи из Праги неожиданные известия о болезни моего сына Герберта. 15 марта пришла телеграмма о его смерти – но ведь во время войны тысячи семей теряют своих членов. Был он человеком удивительной и редкой чистоты и честности, художником-поэтом, стремившимся к прекрасной простоте, здоровым и сильным благодаря физической культуре. Он все старался сделать так, чтобы ему не нужно было служить Австрии, и все же он нашел смерть в войне: заразился тифом от галицийских беженцев, которым помогал. Вот случай, пригодный для фаталистов.