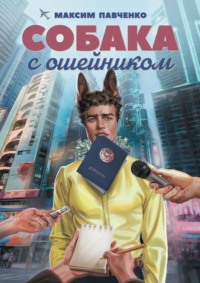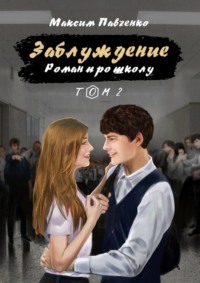Полная версия
Заблуждение. Роман про школу
– Выходит, что у меня все же будет двоечка, – шутя сказал Арман. – Хотя, наверно, ты права…
– А тут еще ни одного русского слова нет! Даже задания на английском! Жуть!
– И то правда. Ты, определенно, права, Люба! – заключил Арман.
– Она же просто решила поиздеваться над тобой. Так… пошутить разок.
– Так разок-два пошутит – а потом и двояк вкатит!
– Да ладно!.. После таких заданий это даже стыдно сделать! – настаивала Люба.
– Хм… И что ты предлагаешь? – спросил Арман.
– Да просто забить на задание – и все! А Гарееву послать на фиг! Мысленно, конечно.
Арман явно был в замешательстве. Он еще минуты две стоял и раздумывал, как же поступить. Было заметно, что ему пришлось даже поднапрячься, ибо решение, каким бы оно ни получилось, все равно выглядело бы противоречивым. А уж какой удар по ответственности! Вот тебе и пофиг! Опять начинается… Потом мы стали его слегка подгонять, все же еще помня о литературе, и он, наконец, заключил:
– Да, вы правы! Сто раз правы! На фиг английский!
Я даже не стану выражать свои догадки относительно того, что заставило Армана прийти к такому выводу. А впрочем…
– Так что с пейнтболом? – спросила Даша.
– А что тут неясно? Едем! – заключил Арман.
Тем временем мы продолжали всей группой, теперь и с Арманом, тянуться на урок литературы.
Через центральный коридор второго этажа идти было опасно – там был велик риск столкнуться с Барнштейн или Чивер. Поэтому мы решили пойти по обычной лестнице подъема.
Подходя ко второму этажу, мы вдруг услышали чьи-то шаги. Принадлежать они, конечно, могли кому угодно – как обычному школяру-прогульщику, так и директрисе, – и здесь мы не владели точной информацией, равно как и не обладали экстрасенсорными способностями, – поэтому ситуация становилась неприятной; к тому же кто-то явно шел к нам именно со второго этажа. Мы хотели быстренько смыться, но уже понимали, что вряд ли успеем. Решено было всем оставаться на местах.
Итак, человек, чьи шаги мы слышали, уже открывал лестничную дверь. Вероятность, что сейчас появится кто-то из пары Барнштейн-Чивер, была очень велика. Вот еще секунда…
Но, к счастью, все обошлось. Дверь открылась – и перед нами предстала завуч по творческой работе, Щепкина Дарья Алексеевна. Читатель должен знать, что это добрейшей души человек, очень тонкая, творческая натура. Она всегда умела организовать концерт, конкурс, выставку, спектакль или дискотеку в нашей школе – разумеется, только тогда, когда ей это поручали, – и это у нее неизменно получалось очень хорошо, если не сказать больше – блестяще! Она словно всегда знала, чего хочет нынешняя молодежь, что интересно современному поколению, и подстраивала эти вкусы под любое мероприятие, хотя самой ей было уже, наверно, за пятьдесят лет. Компания – надо отметить – очень любила и уважала Дарью Алексеевну. Оттого и неудивительно, что, увидев Щепкину, мы все сразу успокоились, обрадовались и встретили ее самыми дружелюбными приветствиями.
– А мы вас давно не видели, – пожаловалась Люба.
– Да я в отпуск уезжала – и только вчера приехала. А вы опять гуляете, молодежь. Небось, снова в столовой были? – иронично и с пониманием заметила она. – Костя! И ты здесь! – радостно крикнула Дарья Алексеевна и кинулась навстречу Косте для самых крепких объятий.
Тут я должен отметить, что Костю Дарья Алексеевна особенно любила. Она знала, что он – такая же творческая натура, как и она. Впрочем, то же можно было сказать и про Лешу, которого она и так всегда уважала и отмечала.
– Кстати, как обстоят дела с номером? – спросила вдруг Дарья Алексеевна.
– С каким номером? – спросили мы.
– Ну как же! Номер ко Дню учителя, 5 октября. Нужен от каждого класса, а тем более – от вас! Уже немного осталось… Неужто вы забыли?
– Да нет, мы помним, – сказал Костя. – Но ведь еще целая неделя впереди! Все успеем! К тому же праздник выпадает на воскресенье, не так ли?
– Да это не страшно, справим в субботу, – сказала Дарья Алексеевна. – Но мне важно, чтобы у вас был номер. В четверг – пробный просмотр.
– Хорошо, мы все сделаем, – заверил ее Костя. – Как обычно, все будет круто, – сказал он, показав соответствующий жест.
– Я в этом не сомневаюсь, – ответила Дарья Алексеевна, бодро улыбнувшись. – Ладно, бегите на урок.
Мы уже было тронулись, но в это время Дарья Алексеевна подозвала к себе Костю и Лешу, желая, видимо, обсудить с ними некоторые планы праздника. Оставшиеся, в том числе и я, решили подождать их перед дверью, открывавшейся на третий этаж. Через три минуты Костя с Лешей снова примкнули к нам – и мы сразу выяснили, что, оказывается, Дарья Алексеевна попросила Костю что-нибудь сбацать на гитаре на концерте, и что они некоторое время обсуждали, что бы именно он мог сыграть; Лешу же она попросила написать какой-нибудь стих, посвященный празднику, дабы он смог его прочитать перед всеми аккурат при открытии концерта. Леша охотно согласился, сказав, что по такому поводу к нему на неделе обязательно придет вдохновение – и тогда он сочинит лучший стих на свете! Затем Дарья Алексеевна еще раз напомнила Косте и Леше про номер и пообещала, что поговорит на эту тему с Долгановым. Тут она, конечно, собиралась поступить очень грамотно, ибо хорошо знала нашего физрука, а, следовательно, и понимала, что нам активизировать его вряд ли удастся.
Итак, мы оказались на третьем этаже. В класс Федоровой заходить по-прежнему не хотелось, и Леша предложил нам поглядеть на картины, что только вчера повесила на стене Дарья Алексеевна (очевидно, некоторые она привезла из отпуска). Мы с радостью поддержали эту идею.
На картинах были изображены в основном пейзажи. Но встречались и батальные сцены, и морские просторы, и портреты известных личностей. Рядом с ними висела деревянная табличка, уверявшая, что их авторы – прославленные художники, некоторые произведения которых можно увидеть, например, в «Эрарте». 14
В картины мы вглядывались очень внимательно, пытаясь понять весь тот глубокий смысл, который в них заложили художники. Особенно скрупулезно вглядывался Саня. Его лицо в такой момент выражало собой как одухотворенность – неотъемлемую составляющую диалога с искусством, – так и глубокий анализ, свойственный всем субъектам практически любого вида познания. Картин всего было девятнадцать, и для того, чтобы досконально осмыслить каждую из них, нам требовались определенное время и соответствующий духовный настрой. Но проницательность, помноженная на восхищение, и начальная духовная осведомленность помогли нам достаточно глубоко проанализировать увиденное. Мы словно связались с мыслями художников, создававших эти картины…
Процесс духовного насыщения был закончен, и мы подошли-таки к кабинету литературы. Опоздание было уже довольно большим, и мы все – Костя, Саня, Люба, Карина, Миша, Женя, Даша, Вика, Леша, Арман и я – прекрасно понимали, что Федорова, увидев нас, начнет рвать и метать – по крайней мере, на 90% мы были в этом уверены. Тем не менее такого страха, как если бы мы шли к Бандзарту или Чивер, или – еще хуже – к Барнштейн (правда, по счастью, мы к ней не ходим), у нас не было. Но кто-то должен был шагнуть первым, и этим кто-то не мог быть не кто другой, кроме Кости. Самое интересное, что никто, даже Таганов, еще не озвучил на пробу хоть сколько-нибудь правдоподобную отмазку. При этом вешать Федоровой лапшу на уши вроде бы тоже никто не собирался, ибо уровень нашей общей наглости и так уже давно превысил допустимый предел. Ведь согласитесь, что опоздание на десять минут при общей продолжительности урока в сорок пять минут – это по меньшей мере крайнее неуважение к преподу, и мы, как ни странно, это хорошо осознавали. Поэтому совершенно ни к чему было заходить за край. С другой стороны, сказать Федоровой, что «мы просто ели, оттого и опоздали», было бы глупо. Во-первых, для этого была перемена, причем самая продолжительная – аж двадцать минут, а во-вторых, прошло уж слишком много времени после нее. Неужто мы все тридцать минут ели? Ну, допустим, что полвремени ели, а затем смаковали – типа радовались послевкусию, делились впечатлениями о еде, как это когда-то было в пиццерии, и т. п. Но это еще глупее.
Был вариант сказать, что нас задержала Дарья Алексеевна, – мол, «объясняла нам сценарий Дня учителя, мы долго спорили, не могли прийти к консенсусу – вот и вышло такое громадное опоздание», но… тут на нас нападала совесть. Все-таки Дарья Алексеевна была любима всеми, а потому подставлять и вмешивать ее во всю эту хреновину никому не хотелось. Вот если бы нас задержала Гареева или Никанорова…
Про картины и думать было бессмысленно. Окружать себя ореолом духовности в данной ситуации означало подвергнуть себя под дикий унизительный смех. Ну а вариант с тем, чтобы вообще прогулять литературу – то есть по полной программе, – казался нам, несмотря на весь вакуум нормальных отмазок, не самым лучшим. Нет, конечно, теперь мало что могло помешать нам пропустить всю литературу – и, наверно, это было бы логично. Но вот что нам потом за это будет?.. Ох, горький опыт подсказывает, что ничего хорошего. Если уж десятиминутное опоздание может стать для нас роковым…
Вот такая складывалась ситуация. Не имея толком ни одной подходящей причины, мы должны были как-то выкручиваться. Очевидно, теперь уже спасти нас могла только импровизация – возможно, переполненная лишними подробностями и деталями, возможно, почти неправдоподобная, возможно, напротив, гипербанальная, а, возможно, сумасшедшая… Сумасшедшая – та, на которую способен один на миллион.
– Попробуем изъясниться, – сказал Костя, и открыл дверь кабинета, и первым зашел внутрь. Следом зашли и мы.
Федорова в этот момент стояла, лицом обратившись к классу, и говорила что-то о «Гранатовом браслете». Наверно, она бы сильно изумилась, когда б увидела, как спокойно, гордо и по-хозяйски мы все зашли в ее кабинет. Прямо как высокоуважаемые в обществе леди и джентльмены.
Через десять секунд Федорова заметила, что взгляды сидящих направлены уже не нее. Она обернулась и увидела нас – одиннадцать человек, стоящих всей группой у доски. Разумеется, начались вопросы «Где вы были?», «Почему опоздали?» и «Что все это значит?», и, разумеется, отвечать на них взялся Костя.
– Татьяна Анатольевна, – начал он, – сегодня мы опоздали, потому что произошел казус – совпало очень много обстоятельств, – Костя говорил полуиронично. – Вроде еще Лев Толстой говорил, что событие может произойти только в том случае, если совпадет миллион обстоятельств. Вот у нас так и случилось…
– Постойте, Таганов, – остановила его Федорова. – Толстой имел в виду крупное историческое событие – например, войну, революцию. Вы же сейчас сравниваете войну с опозданием, и, на мой взгляд, это далеко не самое удачное сравнение, – строго заключила она.
– Согласен, Татьяна Анатольевна, – продолжал Костя, – но ведь для того, чтобы случилось опоздание, а тем более десятиминутное, требуется тоже немало причин. Их, конечно, будет не миллион и не сто тысяч, но несколько штук точно найдется.
– Что вы говорите? Назовите хотя бы десять, – с хитринкой на лице потребовала Федорова.
И вот тут она попалась! Костя без труда назвал ей даже больше причин, причем причины эти были самые разные: очереди в столовой, разговор с учителем, мысли о сознательном опоздании, мысли о прогуле, встреча с другом, долгое переваривание пищи, затем смакование ее, размышления об уроках, ненависть к предмету, думы о жизни, прекрасные картины в рекреации, скука на литературе, общая хандра, желание выпендриться и т. д. Конечно, Костя импровизировал, придумывая самые дикие и смешные причины, но он не выделил ни одну из них в оправдание нашего опоздания, а заодно легко ответил на хитрость Федоровой.
– Ну хорошо, – сказала она. – Допустим, что вы столкнулись с невероятными обстоятельствами, причинами и нежеланием идти на мой урок. Но ведь вы делали это сознательно. Вы сознательно решили сократить себе время литературы, что, кстати, с успехом продолжаете делать и сейчас. Не так ли?
– Так-то оно так, – отвечал Костя, – но, может быть, наше желание отрезать часть от урока литературы относится к бессознательному? Это же по Фрейду!..
Теперь уже Татьяна Анатольевна была поставлена просто в тупик. Вряд ли она поняла то, о чем ей сейчас сказал Костя, но, впрочем, она, наконец, решила перейти ближе к делу:
– И все-таки, Таганов, может быть, вы скажете, отчего вам так не хотелось идти на урок литературы? И почему вы подговорили опоздать такую большую группу людей? Что, личная антипатия ко мне? – язвительно спросила Федорова.
– Да нет. Никакой личной антипатии нет. Замечу, что и подговаривать я никого не собирался. Я вас подговаривал? – он обратился к нам.
Мы, конечно, помотали головами.
– Опоздание произошло не только по моей воле, – заметил Костя.
– Тогда по чьей же? – с любопытством спросила Федорова.
– По общей, – спокойно ответил Костя. – Отвечая же на ваш предыдущий вопрос, … литература мне, по правде, никогда не нравилась. А слушать о «глубоком смысле „Гранатового браслета“» мне, честно, неинтересно. Уж простите меня.
– Но почему? Почему вам так не нравится «Гранатовый браслет»? – задергалась Федорова. – Объясните же!
Вот тут началось самое интересное, ибо Костя без всяких удивления, беспокойства, стеснения и боязни начал свое изъяснение. Замечу, что класс, и так уже возбужденный, и заинтересованный, и пораженный прежними словами Таганова, вряд ли мог ожидать, что он скажет дальше.
– Да просто… все последние произведения школьной программы невозможно читать, там все время речь идет о любви! – сразу заявил Костя. – По мне, это как-то скучно, занудно. И вы не представляете себе, Татьяна Анатольевна, как меня эта тема уже достала! Уже вот тут сидит, – Таганов показал на шею. А класс вовсю уставился на него.
– Я не знала, что вас это беспокоит, – заметила Федорова.
Костя, воспользовавшись моментом, решил продолжить:
– Но самое ужасное, что современные писатели вовсю продолжают ее затрагивать! И особенно это касается поэзии – она вообще вся в любви, – Костя показал характерный жест, продемонстрировавший его неприязненное отношение к поэзии. – Но если мы обратимся к рассказу «Гранатовый браслет», то там это вообще доведено до крайней степени. Этот Куприн не просто пишет о любви. Он поднимает тему безответной, неразделенной, истинной любви – и, похоже, совсем не понимает, о чем пишет. Лично я всего этого ни слышать, ни читать не могу! Мне это вообще не нравится! Читать «Гранатовый браслет» и изучать его я вижу крайне постыдным для себя занятием! Вот мое отношение к литературе! И вот почему я не хотел идти на сегодняшний урок! такой
– Но позвольте, Таганов, – обратилась к нему Федорова, которая, в отличие от класса, кажется, была готова к его последним репликам, – неужели вы что-то имеете против любви?
– Да, имею. Много чего имею, – с гордостью произнес Костя.
– Это становится интересно… – произнес я на ухо Сане.
Лица учащихся стали выражать еще большую заинтересованность – в классе, включая Федора и Владимира, не было ни одного человека, которому не было любопытно, что дальше скажет Костя. Ему удалось по полной возбудить публику.
– И что же именно вам не нравится в любви? – последовал новый вопрос от Федоровой.
– Все не нравится! – резко ответил Костя. – На 200%! – шутя, обобщил он. – Все эти свидания, признания, поцелуи, символы, … этот ужасный День святого Валентина!.. Мне это все очень противно. Невозможно идти в хорошем настроении по улице, если рядом – очередная влюбленная парочка! Стоит – и как будто ничего вокруг себя не замечает! Они там постоянно обнимаются, комплименты друг другу сочиняют, потом еще смотрят все время друг на друга, как будто полжизни не виделись… Это ненормально. Такое впечатление, что они заболели. Чего стоят хотя бы эти отрешенные взгляды – это же… ужас. Не знаю даже, как еще это можно назвать…
– И часто вы такое видите? – поинтересовалась Федорова.
– Да везде: в торговых центрах, в автобусах, в школе… Стоят себе очередные двое и при всех говорят друг другу нежности, употребляют какие-то ласковые имена, не устают повторять фразы про свои чувства – типа «не могут они жить друг без друга», «умрут в один день» и тому подобного… Это же явная ложь! Зачем так откровенно лгать, не понимаю?!
– Остановитесь, Таганов! – потребовала Федорова, видя, что эмоциональность того уже перешла определенные пределы. – По-моему, вы зашли слишком далеко. Еще немного – и вы начнете кричать!
– Этого не будет, – спокойно ответил Костя.
– Что-то не похоже… – засомневалась Федорова. – После всех сказанных вами слов!..
– А что я такого сказал? – удивился Костя.
– О, вы многое сказали! Своими словами вы сейчас фактически поставили под сомнение такое прекрасное, такое святое и такое жизненно важное чувство, как любовь! – одухотворенно произнесла Федорова, особенно подчеркнув последнее слово. – А также позволили себе употребить несколько неприличных выражений, – добавила она гневно.
– Уж не знаю, какие там неприличные выражения я употребил, – возразил Костя, – но я знаю точно, что все сказанное мною сейчас есть правда, самая искренняя правда! И поверьте, некоторые люди просто не представляют себе, как сильно они заблуждаются, когда утверждают, что знают, что такое любовь.
– В чем же они заблуждаются? – спросила Федорова.
– Да во всем! – чуть ли действительно не крикнул Костя. – Они считают, что любовь – это великое чувство, без которого невозможна жизнь человека. Они полагают, что любовь – это счастье; что любовь может наступить только в исключительных случаях и только раз в жизни. Эти люди считают, что им невероятно повезло, так как они типа «ощутили и продолжают ощущать свое счастье», – с пафосом произнес Костя. – А я утверждаю, что эти люди глубоко заблуждаются, ибо они еще не знают, как сильно обманулись…
– Эх, Таганов… Похоже, что вы никогда не влюблялись, – заключила Федорова.
– И хорошо! – ответил Костя. – Что называется, повезло. Надеюсь, я никогда и не столкнусь с этим.
– Но почему? Почему вы так сторонитесь любви? Неужели вы ее… боитесь? – удивленно спросила Федорова.
– Ну, пожалуй! – сказал Костя.
– Почему?
– Потому что это довольно страшное явление, как мне кажется.
– А вы пробовали? – поинтересовалась Федорова. – Вы так рассуждаете, словно через все уже прошли? это
– Нет, – сказал Костя, – но я буду очень рад, если мне через никогда и не придется пройти. это
– Интересно, а давно ли у вас сформировалось такое мнение? – спросила вдруг Федорова.
– Я думал над этим, – ответил Костя. – Думаю, сформировалось оно с прошлого года. Даже могу сказать точнее: я начал думать об этом с того самого момента, как услышал «Теорию Идеального Общества», автором которой является Александр Топоров, – в этот момент взоры всех присутствующих в классе обратились на Саню. Тот, в свою очередь, принял очень горделивый вид, словно ему собрались вручить какую-нибудь премию.
– Интересно, что же это за теория? – спросила Федорова Костю. – Вы не лишите нас удовольствия ее прослушать?
– О, это не проблема, – заверил Костя. – Но будет лучше, если ее нам расскажет сам автор. Если, конечно, согласится. Ты ведь согласен, Саша? – Костя обернулся к другу.
– Согласен, – уверенно сказал Саня и уже принялся было знакомить с теорией весь класс, как в этот момент Костя прервал его с целью предупредить слушателей, что, на первый взгляд, она может показаться им откровенно странной и даже бредовой, но это только на первый взгляд; а если же что в ней покажется непонятным, то они – Костя и Саня – не только все разъяснят, но и поделятся со всеми теми выводами и суждениями, которые они сформулировали на основе данной теории.
Итак, Саня рассказал свою теорию. Разумеется, сейчас в его речи отсутствовали грубые слова, да и вообще, надо заметить, Сане как-то удалось, избежав грубости, передать слушателям содержание теории. Пожалуй, была даже надежда на то, что кто-то что-то поймет. Но, конечно, в таких ситуациях рассчитывать на всеобщее согласие, равно как и на понимание, практически бессмысленно. Вот и здесь вышла вполне предсказуемая картина.
После относительно короткого монолога Сани класс разделился на две группы, причем получились они явно неравными. Разумеется, что в первой группе, которая отнеслась к теории Сани с симпатией, было немного человек: я, Костя, Леша, Миша, Арман, Дима и автор. Девушки, что вполне объяснимо, в ней отсутствовали – они все вошли во вторую группу, где, понятное дело, оказался и Сергей Бранько. Нашлись, по традиции, и два пофигиста – да, Саня своей речью заинтересовал Федора и Владимира, но не настолько, чтобы они захотели причислить себя к той или иной группе.
Конечно, во второй группе откровенно посмеивались над «Теорией Идеального Общества» – там было нечто похожее на нашу первую реакцию (мы ведь тоже вначале смеялись). Отмечу, что и мы – те, кто одобрительно отреагировали на теорию, – тоже, наверно, не могли понять всего того, о чем сказал Саня. Да и мнение наше было продиктовано, прежде всего, необходимостью поддержать друга в момент, когда бльшая часть публики от него отвернулась, и даже некоторые люди из Компании. Безусловно, удивил Дима Ветров. И чего это он так восхитился теорией? Может, увидел что-то свое?.. Впрочем, это сейчас не слишком важный вопрос. о
Куда важнее мне состояние Сани. Увы, он находился на грани поражения, ибо народ – и это было хорошо видно по реакции класса – не поддержал его, не оценил теорию… Некоторые лица продолжали откровенно нагловато смеяться, а тут еще Федорова решила, видимо, добавить:
– Эх… Похоже, Топоров, что ваша теория далеко не всех устраивает в этом классе. Я бы на вашем месте как следует пересмотрела бы ее…
В общем, Саню надо было спасать. Причем сначала требовалось спасти его теорию, а уже потом автора. Но как?.. А ведь от теории сейчас очень много зависело для Сани, ибо фактически начала существовать обратная пропорциональность между уровнем критики в адрес «Теории Идеального Общества» и репутацией Топорова.
К счастью, еще не все в этот день сказал Таганов. Он решил обратиться к Федоровой.
– Как вы видите, Татьяна Анатольевна, эта теория еще достаточно сыра. Она явно нуждается в поправках. Ибо, во-первых, здесь как будто все против женщин, а во-вторых, речь идет о стремлении к равенству между противоположными полами, чего, в принципе, быть не может. Ну, и в-третьих, как-то расплывчато в этой теории говорится о любви, да? Но вот так получилось, что, услышав эту интересную теорию, я именно над последним моментом и задумался. Ведь действительно: а что же такое любовь? Что, кто-то знает? – Костя внимательно посмотрел на класс. – Что, у кого-то есть абсолютно верное определение любви? – Наступила пауза: класс думал, Федорова молчала, и я рискну даже предположить, что она уже боялась нового спора с Костей. – Вот!.. Именно эти вопросы и стали для меня крайне интересными! Так как-то все получалось, что ранее я совсем и не задумывался над этим. Считал, что и без меня найдется, кому говорить о любви. Да и нужно ли мне это? Но, видимо, я ошибался… И, поняв это, немедленно задумался над поставленными вопросами.
– И что же? – спросила Федорова.
– Я сразу понял, что любовь – это понятие весьма субъективное, и никто – абсолютно никто! – не может выразить хоть что-то конкретное. Поэтому, возможно, Саша и прав, говоря, что «любовь – это что-то странное и подозрительное». Впрочем… до этого я, наверно, достаточно грубо говорил про любовь… и, должно быть, ввел многих в непонимание. Очевидно, мне необходимо поточнее изложить свою точку зрения. Ну а для объяснения мне снова придется обратиться к «Теории Идеального Общества». И я надеюсь, что никто из вас, – Костя с пониманием посмотрел на зал, – не будет против, если я к ней прибегну.
– Попробуйте, Таганов, – сказала Федорова.
Возражений и не должно было быть. Все молчали. Но не так, как молчат обычно мелкие при крике их классной мамы. Это было поистине сосредоточенное молчание. Сосредоточенное на одном человеке. На Косте. Все ждали, что он скажет дальше.
– Итак, в «Теории Идеального Общества», – продолжал Костя, видя, что он сейчас – король речи, – говорится, что в мире существуют две главные противоположности – мужчины и женщины, и с этим утверждением невозможно не согласиться. Эти две противоположности, разумеется, имеют разные принципы, разное мировоззрение, разные склонности и т. д. Однако в современном обществе они имеют равные права, и это очень важно. Саша в своей теории настаивает на возможности существования Идеального Общества только при условии равенства во всем, за исключением, естественно, половых особенностей, и, конечно, данная мысль весьма сомнительна… – заключил Костя. – Честно, вначале я вообще очень скептически отнесся к идее Идеального Общества, принимая во внимание все условия. Действительно, как могут мужчина и женщина мыслить абсолютно одинаково? Иметь полное совпадение в хобби? Опираться в жизни на одинаковые идеологии? Кажется, что никак. Но теперь мы обратимся к теме любви.