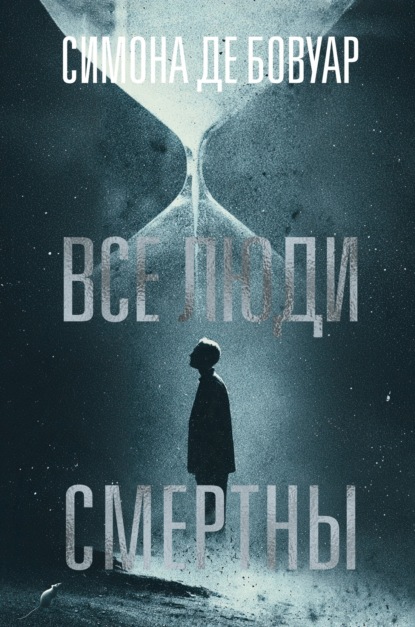Полная версия
На линии огня
– Вот идет Маноло, – произносит Панисо, оборвав отсчет.
И с этими словами падает ничком, зажмуривается, обхватывает ладонями затылок, открывает рот, чтобы от взрывной волны не лопнули барабанные перепонки. Рядом валится Ольмос.
Звучит оглушительное «пу-у-м-ба».
Да уж, Маноло пришел так пришел. От глухого эха двойного взрыва, пронесшегося по улице вдоль домов, вздрагивает земля, вылетают стекла в окнах, сотрясаются уцелевшие стены, над которыми, перемешиваясь с едким черным дымом, поднимаются тучи цементной пыли.
– Там кто-то есть, – говорит Ольмос.
И правда – через огромный пролом во взорванной стене несется длительный вопль, который человек может исторгнуть, лишь когда нестерпимо страдает его израненное, изувеченное тело. Кто-то, накрытый взрывом, не погиб сразу и, на свою беду, жив до сих пор.
– Легионеры, – удовлетворенно говорит Панисо. – Так им, сволочам, и надо.
– Верно.
Вопль длится почти полминуты не прерываясь, словно тот, кто испускает его, вложил в него последние свои силы, отдал ему весь запас воздуха в легких. Но вот его заглушают разрывы гранат, которые республиканские саперы, рванувшись вперед в еще не рассеявшемся дыму, швыряют в широченную брешь, чтобы потом пробраться через нее и полить все автоматными очередями.
Пато Монсон и капитан Баскуньяна проходят под деревьями, глядя сквозь ветви сосен, как клонящееся к закату солнце окрашивает край небосклона красным. Солдаты, вразброд, поодиночке пришедшие сюда, теперь собираются кучками и лежат или сидят на земле.
– Не горюйте, ребята, – говорит им капитан. – Вы сделали что могли. В следующий раз сделаете лучше.
Кое-кто приветствует командира, вскидывая к виску сжатый кулак. Другие смотрят молча и безучастно.
– У нас теперь есть артиллерия… В следующий раз выйдет удачней.
Кажется, они не очень-то рвутся на новый штурм, думает Пато. Но вслух не произносит ни слова.
Баскуньяна, кажется, читает ее мысли.
– Они и вправду сделали все, что могли, – как бы оправдывая своих людей, говорит он. – Им приказали подняться на вершину – они поднялись. Без огневой поддержки, без прикрытия с воздуха. А минометы недотягивали. Всей защиты – валуны да кустарник.
Сделав еще несколько шагов, он пожимает плечами, кивает, будто отвечая самому себе:
– Да, сделали что могли.
Пато идет рядом, ловит каждое его слово. Еще с прошлой ночи, когда война вдруг явила ей всю свою неприглядную суть и показала, как люди истребляют друг друга, новые открытия следуют одно за другим. То, что она увидела, сильно отличается от фашистских бомбардировок Мадрида, как бы чудовищны ни были они, и от того, что представлялось ей в тылу.
– Как много тут совсем молодых… – удивляется она.
– Да уж… Неполные три недели обучения… Не знают даже азов тактики. Спросишь, как они тут оказались, ответят: «Меня и еще десятка два парней из нашей деревни посадили в грузовик и повезли».
Сняв фуражку, он вытирает пот со лба:
– Прежде чем поднять их в атаку, политкомиссар произнес пламенную речь, которая кончалась так: «Видите вон ту высоту? Она нужна Республике». А знаешь, что ему ответил один? «Ну, раз ей нужно, пусть бы сама и отбивала».
– И что же сказал на это комиссар?
– Не комиссар, а я. «Дубина, ты и есть Республика».
Он замолкает на миг, улыбаясь задумчиво и печально, и договаривает:
– Но что же поделать, если других у нас нет.
– А встречаются и почти старики, – продолжает Пато. – Здесь все – добровольцы?
– Нет, не все. Те, про кого ты говоришь, – резервисты, от сорока и старше. А остальные – с бору, что называется, по сосенке… Этот батальон комплектовали два месяца. Солдат ведь не просто приложение к винтовке и полусотне патронов. Солдатами не рождаются, а становятся, и далеко не все успевают.
Огибая деревья, они по-прежнему идут по сосняку. Иногда чуть соприкасаются плечами, и Пато ощущает запах земли и пота, исходящий от ее спутника.
– Вот потому я и говорю – они сделали все, что могли. И больше, чем можно было ждать. Прыгнули, можно сказать, выше головы. Еще хорошо, что повезло с офицерами: Бош и другие дело свое знают.
– И вы все, наверно, члены партии?
Улыбка на лице капитана обозначается ясней.
– Не все.
Под взглядом Пато он делает еще несколько шагов в молчании – и не переставая улыбаться.
– Я служил в Картахене, в морской пехоте. Был сержантом. И одним из тех, кто остался верен… Знаешь, о чем я говорю?
– Знаю, конечно. И таких, кажется, было немного.
– Нашлись все же некоторые… В основном унтер-офицеры. А я поначалу пошел в Мадрид с колонной Дель-Росаль и был там кем-то вроде военспеца. Сущий кошмар: кого там только не было – каменщики, водопроводчики, конторщики, железнодорожники, студенты с таким избытком жизненных сил, что не жалко было малость и растратить… Ребята отважные, но в военном деле – полные олухи. Приказам не подчинялись, в атаку шли, распевая «Интернационал», мерли как мухи и удирали, не разбирая дороги… Наконец начальство сообразило, что так много не навоюешь, и нас – профессиональных вояк из армии и флота, которым раньше не доверяли, – стали назначать командирами и военными советниками. И вот я здесь.
– Значит, ты не коммунист, – делает вывод Пато.
– Вижу, ты смышленая девушка.
Капитан, остановившись, озирается, глядит сквозь стволы сосен на дорогу, ведущую назад.
– Военное дело сродни изобразительному искусству, – замечает он рассеянно.
Потом смотрит на девушку так, словно только что заметил ее присутствие:
– Как тебя зовут?
– Патрисия.
– А что ты здесь делаешь?
– То же, что и ты, товарищ капитан.
Приветливая улыбка топорщит полоску усов, усиливая сходство капитана с голливудским киноактером.
– Ты из Мадрида?
– Да.
– Студентка, наверно?
– Я работала в компании «Стандард электрика», а восемнадцатого июля добровольно пошла в армию и попала в войска связи. Хотела на фронт, но меня не пускали. Ты нужна здесь, говорили мне. Ты – квалифицированный техник, только надо будет еще подучиться.
– Ну и правильно говорили. – Баскуньяна снова окидывает ее любопытным взглядом. – В бою приходилось бывать?
– Нет. Сегодня – впервые, но что такое война, я знаю. Видела бомбежку… трупы… Все мадридцы знают, что это такое.
– Разумеется.
Капитан идет дальше, а Пато – за ним.
– Почему ты вступила в партию, товарищ Патрисия?
Девушка отвечает не сразу. Звук собственного имени, произнесенного этим почти незнакомым человеком, вызывает у нее странное ощущение – чуть тревожное, но приятное.
– Потому что это единственная в Испании партия, которая почти полностью состоит из рабочих, – говорит она немного погодя. – И это предполагает труд, дисциплину, действенность, героизм без громких слов…
– И очень мало демократии.
– Понятие «демократия» переоценено, – с жаром возражает она. – Это просто форма правления, при которой тираны меняются раз в четыре года.
– Да-да, я знаю… Ее защищают лишь до тех пор, пока она необходима. Это просто фаза, предшествующая диктатуре пролетариата.
– Это ты сказал, товарищ капитан. Не я.
Баскуньяна смотрит на нее с обострившимся интересом:
– Но ты ведь не принадлежишь к рабочему классу. Ты получила образование, у тебя была хорошо оплачиваемая работа. Так что по социальному происхождению ты относишься к буржуазии.
– Помимо хорошей работы, у меня были глаза и уши. И мне не нравилось, что меня считают не одной из тех, кто вскидывает кулак к плечу, а барышней, которую больше всего беспокоит, что нечем краситься, потому что перекись водорода нужна для госпиталей.
Капитан снова улыбается приветливо и задумчиво:
– И много таких, как ты?
– Немало.
– А коммунистки не красятся?
Пато проводит ладонью по коротко стриженной голове:
– Я – нет.
Потом, пройдя несколько шагов, убежденно кивает, словно в ответ своим мыслям.
– Франко – это смерть, – произносит она решительно. – А мы – это жизнь.
– Вот даже как… – с мягкой, даже ласковой насмешкой отвечает капитан. – Романтическая коммунистка… Это почти оксюморон.
– Я не знаю, что такое «оксюморон».
– Два слова с противоположным значением, употребленные вместе и противоречащие друг другу.
– Не вижу тут противоречия.
– Романтические порывы больше свойственны анархистам.
– Ненавижу анархистов.
При этих словах капитан, не выдержав, откровенно хохочет:
– В таком случае держись подальше от моих людей.
Пато пропускает это предупреждение мимо ушей. Некстати нахлынувшее воспоминание о юноше, с которым она прощалась на вокзале под дождем, о юноше, вскоре пропавшем без вести под Теруэлем, внезапно отзывается раскаянием. Как будто этим диалогом с капитаном она предает память о нем. Но, по счастью, они уже рядом с полевым телефоном. Стало быть, и разговору конец.
– Я был поставлен командовать этим батальоном потому, что у меня имеется кое-какой опыт общения с разным сбродом, – вдруг произносит Баскуньяна. – Который особой ценности для Республики не представляет. Еще слава богу, что офицеры у меня, как я сказал, подобрались хорошие: половина – коммунисты, половина – социалисты. Мы ладим и делаем что можем. В воинской части демократии быть не может: жаль, многие этого не понимают.
Пато энергично кивает.
– Без дисциплины нет армии! – восклицает она убежденно, призывая на помощь идеологию. – А единственная дисциплина, которая оправданна и благородна, – наша! Ничего общего не имеет с преступным бездушием дисциплины фашистской.
– В этом мы с тобой сходимся, товарищ Патрисия.
Он, кажется, снова шутит. Но Пато сохраняет серьезность. Упрямо гнет свое:
– Я думаю, что комиссар…
Она собиралась сказать, что комиссар, погибший при штурме высоты, успел навести порядок в батальоне и превратить его в настоящую боевую единицу, но осекается, увидев, какое лицо сделалось у капитана.
– Перико Кабрера был человек твердокаменный, с незыблемыми принципами, свято веривший в важность своей миссии, – говорит тот и вдруг как-то странно замолкает. – Может быть, излишне суровый.
– Излишне? Что это значит для комиссара? – по привычке готова затеять спор Пато.
– Ничего особенного не значит. Он делал свою работу, и делал хорошо. Его стараниями батальон получал кое-какое идеологическое, так сказать, обеспечение… А если с личным составом возникали проблемы, решал их с ходу – без колебаний приказывал расстреливать. Так поставили к стенке трех молоденьких дезертиров и двоих буйных анархистов, не желавших подчиняться приказам. С Кабрерой были шутки плохи.
Сказано так, что Пато смотрит на командира еще внимательней. Печаль в глазах, а улыбка – широкая, почти детская, и никакого противоречия в этом нет. Он очень привлекателен, невольно приходит ей в голову, и от этой мысли возникает какая-то смутная неловкость. От его беззаботной улыбки, от ловких движений. От волнующего, какого-то очень мужественного запаха, которым от него веет, несмотря на грязь и пот, а может быть, именно благодаря им, неуверенно думает Пато.
– Как он погиб? – спрашивает она, чтобы отогнать эти неуместные ощущения.
Капитан окидывает ее быстрым оценивающим взглядом. Словно колеблется, стоит ли говорить.
– Пал смертью храбрых, – отвечает он наконец. – Погиб, как, по его мнению, пристало комиссарам. Страстным партийным словом поднимая бойцов в атаку…
Произнеся это, он делает паузу, которая Пато кажется чересчур долгой.
– И получил пулю в спину, – договаривает он.
– В спину? – ошеломлена девушка.
– Так мне доложили. Без сомнения, он в этот миг повернулся к своим и воодушевлял их, и тут какая-то франкистская гадина выстрелила в него. Другого объяснения нет и быть не может… Верно?
На миг улыбка становится заметней и тотчас исчезает, будто ее и не было. Остается лишь печаль в глазах.
– Комиссар Кабрера погиб смертью героя… Республика вправе им гордиться.
V
Вагоны грязные и неудобные, стекла в окнах выбиты, и бойцы ударной роты Монсерратского полка пытаются половчей устроиться на жестких деревянных скамейках, дремлют, склонив голову на плечо соседу. Багажные полки и проходы завалены оружием, амуницией, снаряжением – ранцами и патронными ящиками. Пахнет людьми – немытыми и истомленными.
Солдаты-рекете уже сутки едут так из Калатаюда, куда после боев при Уэртаэрнандо роту отвели на переформирование и отдых. Однако наступление красных ускорило события, и 157 бойцов ударной роты спешно посадили в первый же подходящий поезд и повезли на позиции националистов, оборонявших городок Кастельетс-дель-Сегре.
Скрежещут тормоза, лязгают вагонные буфера: поезд резко останавливается. Спавший на плече товарища капрал Ориоль Лес-Форкес – смуглый, статный парень приятной наружности с коротко стриженными черными волосами – от толчка едва не падает с лавки. Ругается сквозь зубы.
Хлопая глазами, он выпрямляется, смотрит в окно, на перрон: свинцово-серый рассвет уже рассеял полумрак, и Форкесу удается прочесть название станции.
– Мы в Боте!
Тот, на чьем плече он спал, теперь тоже открывает глаза, трет их кулаками. Он тощий и рыжеватый, с бакенбардами а-ля Сумалакарреги[26]. Зовут его Агусти Сантакреу, и он тоже из Барселоны, рожден и вырос в Каталонии. Учился на факультете философии и словесности. Они с Форкесом – соседи и друзья детства: вместе ходили в школу, вместе ухаживали за барышнями, вместе бежали во Францию, когда 21 июля 1936 года стало ясно, что в Каталонии мятеж провалился, и вместе с другими, спасшимися с захваченной красными территории, вернулись через границу домой, чтобы записаться в армию. Им по 21 году (Сантакреу на три месяца старше), но обоих смело можно считать ветеранами, вдосталь понюхавшими пороху. Тот и другой оказались среди пятидесяти бойцов, уцелевших в кровопролитном сражении при Кодо, возле Бельчите, где их Монсерратский полк полег едва ли не поголовно, потеряв убитыми 142 человека и среди них – всех офицеров и сержантов.
– А это уже Каталония, – вырывается у Сантакреу.
Из-под берета с капральской нашивкой искрятся глаза Ориоля Лес-Форкеса. Он крепко жмет руку друга:
– Да, Агусти… Впервые за два года мы ступим на родную землю.
По всему вагону из уст в уста перелетает название станции. Кое-кто выглядывает наружу и произносит с почти религиозным благоговением: Бот, Каталония, наконец-то. Кое-кто рукоплещет, будит тех, кто еще спит. Похрапывание и протяжные зевки сменяются восторженными криками.
– Прибыли! Конечная! Выгружайся! – командует кто-то, проходя вдоль перрона.
Солдаты, разминая затекшие руки и ноги, выполняют приказ: собрав снаряжение, выходят на перрон, выстраиваются там повзводно. Между шеренгами, флегматично помахивая хвостом, разгуливает легавый пес Дуррутти – ротный талисман. Иные взамен отсутствующих шинелей набрасывают на плечи одеяла, потому что утро выдалось не по сезону холодным. У всех подвело животы: за последние сутки выдали только по ломтю хлеба и по банке консервированных кальмаров, и даже самый ярый роялист с удовольствием бы отдал свой красный берет за кружку кофе с молоком – первую на родине. Однако ничего не выдают, и рота, стоя смирно, ждет, когда капитан дон Педро Колль де Рей окончит перекличку:
– Айгуаде.
– Я!
– Бруфау.
– Я!
– Кальдуч.
– Я!
– Дальмау.
– Я!
– Денкас.
– Я!
– Эстаделья.
– Я!
Все они из Каталонии, из четырех ее провинций и из самых разных социальных слоев – здесь отпрыски крупной буржуазии и аристократии с давними роялистскими традициями, здесь студенты, рабочие, служащие, чиновники, крестьяне-арендаторы, – и всех, кроме языка (в Монсерратском полку принято говорить по-каталански), объединяет истовый католицизм и животная ненависть к марксистам и сепаратистам, раздирающим их отчизну в клочья. Все – добровольцы, и в одном строю стоят братья, отцы и сыновья.
– Фабрегар.
– Я!
– Фальгерас.
– Я!
– Габальда, отец.
– Я!
– Габальда, сын.
– Я!
– Жимпера.
– Я!
Ориоль Лес-Форкес, стоя вольно рядом со своим другом Сантакреу – приклад винтовки уперт в землю, руки сложены на стволе, на правом запястье висят четки рядом со стальным браслетом, где указаны фамилия и личный номер, – слушает этот монотонный перечень. У большинства его однополчан за плечами то же, что и у него: уличные бои против губителей Испании во главе с Асаньей, Негрином, Ларго Кабальеро и Компанисом[27], начавшиеся и проигранные в первые дни Мятежа, а те, кого не расстреляли на кладбище Монкада, кого не сбросили в ров крепости Монжуи или в придорожные кюветы, разными путями пришли в Монсерратский полк. Одни – успев повоевать в других местах, в других воинских частях, другие – новобранцами. Боевой дух у всех очень высок и поддерживается жаром патриотизма и веры – недаром говорят, что нет солдата лучше, чем рекете после причастия; за мессы и таинства отвечает патер дон Игнаси Фонкальда, сами же солдаты носят на груди, под рубахой, образок, а поверх френча – скапулярий со Святым Сердцем Иисусовым, способный, как известно, отвести пулю. Недавно выданные новые стальные каски «Трубиа» у всех приторочены к ранцам. Истинный рекете гордится тем, что в бою голову ему защищает его красный берет.
– Ну, что думаешь? – шепчет Сантакреу.
– Думаю, что завтра свадебку сыграем, – отвечает капрал. – Угостят на славу, накормят до отвала.
В строю они стоят рядом, хотя Форкес почти на голову выше. Как и у многих других, к прикладам их «маузеров-Овьедо» приклеена бумажная иконка с образом Моренеты – Пречистой Девы Монсерратской. Хотя оба они образованные, на офицерские курсы, после которых присваивают звание «младшего лейтенанта военного времени», пойти не пожелали. Предпочли каталонский полк, где звучит родной язык и служат земляки.
Сантакреу морщится:
– Даже по стакану цикория не налили… И посмотри на капитана: он сейчас весь перрон стопчет: ходит как маятник туда-сюда.
Капрал глядит на дона Педро Колль де Рея – импозантный мужчина с выхоленной бородкой, в красном берете с тремя шестиконечными звездочками, с тростью, которой он небрежно помахивает на ходу, больше похож не на военного, а на аристократа, отправившегося на псовую охоту. Даже оружие у него не табельное – денщик несет за ним великолепную двустволку «Сараскета». Он принял командование ротой всего два месяца назад, но все знают, что до этого заработал медаль в кровопролитных рукопашных боях на севере, где воевал в составе Лакарского полка.
– Ишь, как спешит. Не терпится ему… А ведь до линии фронта – пятьдесят километров.
– Это в том случае, если ремихии не придвинулись малость поближе.
Ориоль Лес-Форкес ухмыляется. Кличка «ремихии» приклеилась к красным после серии юмористических передач Национального радио «Ополченец Ремихий – бравый вояка». Если верить радио, ремихии были как на подбор – трусы, лодыри и пошляки.
– Оно и лучше – нам меньше шагать.
– Слушай, ты прав, – отвечает Сантакреу. – Нет худа без добра, или, как говорит наш патер, «Господь, когда запирает дверь, тут же открывает окно».
Убедившись, что все налицо, капитан Колль де Рей – пес следует за ним неотступно – подает отрывистую команду, и рота, повернувшись направо, трогается с места. В рассветных сумерках рекете под знаменем с андреевским крестом, которое несет сержант Буксо, не слишком стройной колонной и не чеканя шаг, покидают перрон.
– Плакал наш завтрак, – говорит Сантакреу, видя, что рота огибает городок и движется по направлению к Батее.
Через полчаса, когда наконец вступает в свои права утро, колонна делится надвое и идет по обеим обочинам шоссе – на тот случай, если появятся вражеские самолеты и надо будет рассредоточиться. Солдаты идут молча, берегут силы: слышно только, как побрякивают на поясах штыки в ножнах, задевая фляги, алюминиевые котелки, затворы винтовок и пряжки на противогазных сумках, в которых, вопреки уставу, все давно уже носят табак и индивидуальные пакеты.
По гравию дороги вразнобой стучат сапоги. Иногда, чтобы отвлечься от пустоты в желудке, несколько солдат затягивают песню, сложенную еще их прадедами-карлистами. Как яркие маки, алеют на шоссе две цепочки красных беретов. Ориоль Лес-Форкес с наслаждением подставляет лицо легкому ветерку, веющему запахами смолы, укропа, чабреца, розмарина.
Уже пахнет Средиземноморьем, думает капрал. Каталонией.
– Славный денек, – говорит он Сантакреу, который идет впереди с винтовкой на ремне.
– Был бы славный, если бы накормили, – бурчит тот. – Ad mensam sicut ad crucem[28].
Форкес горд вдвойне – он не просто сумел возвратиться на родину, но пробился сюда с боями, и каждый шаг требовал напряжения всех сил и грозил смертью. Подлым и трусливым сепаратистам, захватившим власть в стране, сумели показать, что не все каталонцы покорные рабы или ошалевшее от марксистской ереси отребье, а остальным испанцам, включая и генералиссимуса Франко, – что, несмотря на провалившийся Мятеж, на бесчинства вооруженного сброда, на пытки и расстрелы в застенках и подвалах ЧеКа[29], существует и другая Каталония – благородная, верная, не сдавшаяся и борющаяся. Готовая и способная, если понадобится, смыть недоверие к человеку, носящему каталонскую фамилию и говорящему по-каталански, – недоверие, крепко угнездившееся в душах многих и многих испанцев, которые по незнанию стригут всех под одну гребенку. Вот потому так нужен Монсерратский полк, думает он. И все, что он воплощает и чем вознаграждает.
– Мы снова ступили на свою землю, Агусти, – с напором говорит он, не скрывая радости. – Скоро уж будем пить вермут с джином и принимать ванны в отеле «Ритц».
– Жаль только, что Фрейшес, Риера и другие не могут порадоваться с нами.
– Они радуются, глядя на нас с небес.
– Верно.
Да, конечно, они там, уверен Форкес. В царствии небесном, в райском саду. Вознеслись туда прямо из Кодо, минуя чистилище, ибо отбыли свой срок в земной жизни: Кастани, Падрос, лейтенант Алос, трое братьев Сабатов, двое братьев Фига – Хуан и Хоакин, отец и сын Губау… Они и все остальные – те, что дрались до последнего патрона на развалинах городка, и те, кто был ранен, взят в плен и расстрелян красными, и те, кто еще уцелел и попытался штыковой атакой вырваться из кольца в Бельчите – удалось это лишь Форкесу, Сантакреу и еще сорока двум солдатам, – все остальные погибли по дороге. Настоящие рекете. Люди веры и чести. Отважные сыны Каталонии.
– Воздух! – слышится чей-то крик.
Отдаленный рокот моторов, черные точки, приближающиеся с запада. Да, налет.
– Рассредоточиться!
Свисток капитана Колля де Рея – и солдаты рассыпаются по обе стороны шоссе, припадают ничком к земле. Кое-кто вскидывает винтовку, а лейтенант Кавалье приказывает изготовить к стрельбе 8-миллиметровые ручные пулеметы «шоша».
Нет, ложная тревога. Это свои: на задней части фюзеляжа у них черные косые кресты – опознавательные знаки франкистской авиации. Пролетая над ротой, один из пилотов поднимает руку в салюте.
Солдаты, все еще лежа в несжатой пшенице, провожают глазами удаляющиеся самолеты, меж тем как невозмутимый Дуррутти, не убежавший вместе со всеми, отставляет хвост, сгибает задние лапы и, вскинув голову, как самый неустрашимый рекете, наваливает посреди дороги изрядную кучку.
– Засели в «Доме Медика», господин лейтенант!
Сантьяго Пардейро осторожно высовывается из окна верхнего этажа, защищенного тюфяком и мешками с землей, и ощущает неприятную пустоту в желудке. Предчувствие неминуемой беды. И потому, стараясь успокоиться, выжидает, несколько секунд стоит неподвижно, словно продолжает наблюдать за пустынной площадью, на которой теперь лишь изредка слышны одиночные выстрелы. Потом медленно поворачивается к легионеру: по лицу, покрытому кирпичной крошкой и гипсовой пылью, текут ручейки пота.
– Тише! Чего орешь? Орать сейчас не надо.
Легионер вытягивается. Это светлоглазый белобрысый венгр по имени Кёрут или что-то вроде. На службе он вместе со своими земляками-антикоммунистами – всего года полтора, а потому еще не избавился от акцента.
– Красные пробрались туда, господин лейтенант… Захватили два дома и, значит, прервали сообщение.
От него сильно несет винным перегаром; пуговицы на низах узких брюк расстегнуты. После полудня вода кончилась, зной усилился, а потому винные погреба в городке опустошаются исправно. Грязные, расхристанные легионеры ведут бой полупьяными, и выпитое тотчас выходит по́том.
– Это точно?
Легионер показывает себе за спину:
– Парнишка оттуда пришел. От капрала Лонжина.
За ним стоит Тонэт, местный мальчуган, как и все здесь, в пыли с головы до ног. Штаны на коленях у него разодраны, и сам он весь в грязи – видно, много ползал среди обломков. На голове – легионерская пилотка не по размеру. Красная кисточка болтается над детским упрямым лбом.