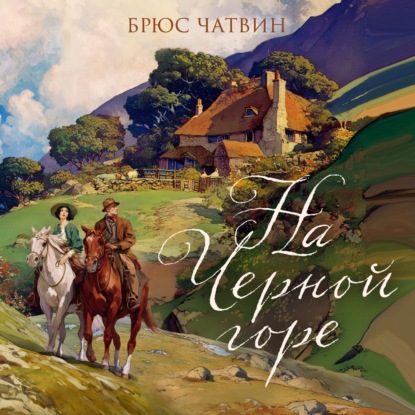Полная версия
На линии огня
7
Пассионария (пламенная) – прозвище Долорес Ибаррури (1895–1989), виднейшей деятельницы Компартии Испании.
8
Немного перефразированный тезис фалангистской пропаганды.
9
Рекетé (исп. requeté – предположительно, подражание звуку трубы, «ре-ке-те»), или Красные Береты, – военизированная молодежная монархическая организация, самые боеспособные части в войсках генерала Франко.
10
Гонсало Кейпо де Льяно и Сьерра (1875–1951) – генерал-лейтенант, один из руководителей восстания 1936 года и виднейший участник гражданской войны в Испании. Считается, что именно Кейпо де Льяно отдал приказ об убийстве поэта и драматурга Федерико Гарсии Лорки.
11
Хиль-Роблес Хосе Мария (1898–1980) – испанский политический деятель, министр обороны, с оговорками поддерживавший Франко.
12
Международная ленинская школа – учебное заведение, основанное в 1925 году в Москве для обучения и «большевизации» молодых коммунистов из стран Европы и Америки.
13
Энрике Листер (1907–1994) – видный деятель испанской компартии, военачальник республиканской армии, основу которой заложил созданный им так называемый Пятый полк.
14
Хуан Негрин Лопес (1892–1956) – испанский политик, премьер-министр в 1937–1939 годах.