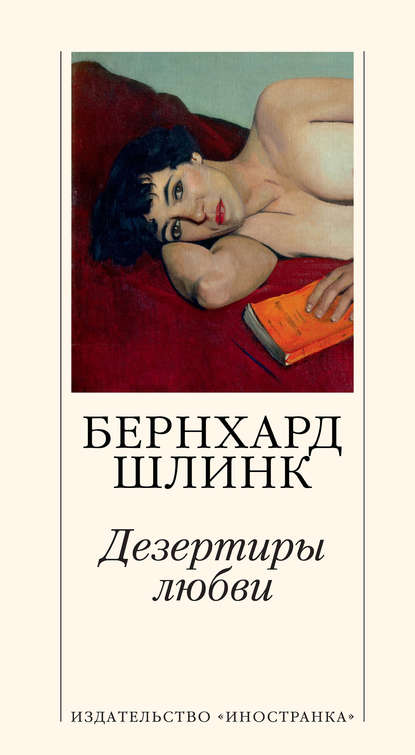Полная версия
Сердце бури
Священник рассмеялся:
– Отец Пруайяр считает, что вы не только пуритане и анархисты, но и страшные позеры. Болезненно самолюбивые, манерные… как этот юноша Сюло. Однако вы не такой.
– Думаете, мне следует оставаться самим собой?
– Почему бы нет?
– Мне кажется, это требует еще больших усилий.
Позднее, отложив требник, священник размышлял над разговором. Бедный мальчик, решил он. Его судьба – прозябать в провинции.
Год 1774-й. Позеры они или нет, но приходит время взрослеть. Время выйти на публику, время совершать публичные поступки и высказывать публичные суждения. Отныне всему, что с ними случится, суждено предстать перед судом истории. Не в зареве дневного светила, но в свете блуждающего огня разума. В лучшем случае в отраженном проблеске луны, сухом, неверном, подслеповатом.
Камиль Демулен, 1793 год: «Полагают, что обретение свободы сродни взрослению: придется страдать».
Максимилиан Робеспьер, 1793 год: «История есть выдумка».
Глава 2
Блуждающий огонь
(1774–1780)
Сразу после Пасхи король Людовик XV заболел оспой. От самой колыбели короля окружали придворные, его пробуждение подчинялось суровым и запутанным правилам этикета, обед непременно проходил на публике, где сотни любопытных по очереди глазели на каждый поднесенный ко рту кусок. Каждое шевеление королевских кишок, каждый любовный акт, каждый вздох короля подвергался всеобщему обсуждению: теперь пришел черед смерти.
Королю пришлось прервать охоту, его принесли во дворец ослабевшего и в жару. Ему исполнилось шестьдесят четыре, и все понимали, что едва ли он переживет болезнь. Когда появилась сыпь, короля затрясло от страха, ибо он понял, что скоро умрет и попадет в ад.
Дофин с женой заперлись в своих комнатах, опасаясь заразы. Когда нарывы начали гноиться, двери и окна распахнули настежь, однако вонь все равно стояла невыносимая. В последние часы гниющее тело отдали докторам и священникам. Карета мадам Дюбарри, последней королевской любовницы, навсегда умчалась из Версаля, и только после ее отъезда, когда король понял, что остался один, ему отпустили грехи. Он посылал за ней, но ему сказали, что она уже уехала.
– Уже, – повторил король.
В ожидании дальнейших событий двор собрался в громадном вестибюле, прозванном Бычьим глазом. Десятого мая в четверть третьего пополудни свечу в окне королевской спальни задули.
И тогда, словно гром среди ясного неба, раздался шорох, шуршание, а затем и топот сотен ног. Позабыв обо всем на свете, двор ринулся через Большую галерею разыскивать нового короля.
Юному королю девятнадцать, его жена, австрийская принцесса Мария-Антуанетта, на год младше. Король, крупный юноша, набожный, честный и флегматичный, любит поохотиться и всласть поесть. Судачат, что из-за болезненно чувствительной крайней плоти он не способен удовлетворять телесные желания. Самовлюбленная, упрямая и дурно образованная королева белокура, розовощека и миловидна. В восемнадцать все девушки миловидны, но ее выступающая габсбургская челюсть намекает на фамильную заносчивость, затмевающую преимущества, что дают шелка, бриллианты и невежество.
Надежды на новое правление высоки. На статуе великого Генриха IV рука неизвестного оптимиста начертала: Resurrexit[1].
Когда начальник городской полиции утром приходит на службу – сегодня, в прошлом году, каждый год, – он первым делом спрашивает, какова цена хлеба в парижских булочных. Если в Ле-Аль достаточно муки, тогда пекарни в городе и предместьях удовлетворят своих покупателей и тысячи разносчиков доставят хлеб на рынки в Маре, Сен-Поль, Пале-Рояль и тот же Ле-Аль.
В хорошие времена хлеб стоит от восьми до девяти су. Поденный рабочий зарабатывает в день двадцать су, каменщик – сорок, искусный замочный мастер или плотник – пятьдесят. Деньги идут на оплату жилья, свеч, жира для готовки, овощей и вина. Мясо только по особым случаям. Главное – хлеб.
Пути доставки неизменны и строго контролируются. То, что не распродано в течение дня, уходит задешево. Бедняки не едят до темноты и закрытия рынков.
До некоторых пор все идет хорошо, но, когда случается недород – в 1770, 1772 и 1774-м, – цены неумолимо ползут вверх. Осенью 1774-го четырехфунтовый хлеб стоит в столице одиннадцать су, но уже следующей весной цена вырастет до четырнадцати. Между тем оплата труда остается прежней. Строительные рабочие всегда готовы отстаивать свои права, а равно ткачи, переплетчики и шляпники (бедняги), однако протестовать они будут, скорее опасаясь снижения оплаты, чем добиваясь ее повышения. Не забастовки, но хлебные бунты – последнее прибежище городского рабочего люда, поэтому температура воздуха и количество осадков над дальними хлебными полями напрямую связаны с головной болью начальника городской полиции.
Как только возникает дефицит пшеницы, люди кричат: «Они сговорились! Морят нас голодом!» Клянут спекулянтов и перекупщиков. Мельники, утверждают они, задумали извести замочных мастеров, шляпников, переплетчиков вместе с их детьми. В семидесятых годах сторонники экономической реформы разрешат свободную торговлю зерном, чтобы самые бедные области страны могли состязаться на свободном рынке, но небольшой хлебный бунт или два – и государство вновь возьмет все под контроль. В 1770 году аббат Терре, генеральный контролер финансов, очень быстро вернул регулируемые цены, пошлины и запрет на перевозку зерна. Он никого не спрашивал, а действовал согласно королевскому указу. «Деспотизм!» – кричали те, кто сегодня ел.
Все начинается с хлеба, он основа всех теорий, пища для всех рассуждений о том, что сулит будущее. Через пятнадцать лет, в день, когда падет Бастилия, цена на хлеб в Париже будет самой высокой за последние шестьдесят лет. Через два десятилетия (когда все будет кончено) одна парижанка скажет: «При Робеспьере кровь лилась рекой, зато у людей был хлеб. Возможно, ради хлеба и стоило пролить немного крови».
Король назначил генеральным контролером финансов некоего Тюрго, сорока восьми лет, человека нового, рационалиста, сторонника принципа невмешательства. Он кипел энергией, брызгал идеями, его переполняли замыслы реформ, которые, по его словам, уберегут страну от погибели. Тюрго воображал себя героем дня и прежде всего задумал урезать содержание двора. Версаль был потрясен. Один из придворных, Мальзерб, посоветовал новому министру вести себя осмотрительнее, иначе наживет врагов.
– Народ нуждается, – резко ответил Тюрго, – а что до меня, то в моем семействе все умирают в пятьдесят.
Весной 1775 года волнения прокатились по рыночным городам, особенно в Пикардии. В Версале восемь тысяч горожан собрались у дворца и стояли, с надеждой всматриваясь в королевские окна. Как обычно, люди полагали, что личное вмешательство короля спасет положение. Интендант Версаля пообещал, что цена на пшеницу будет заморожена. Нового короля уговорили обратиться с балкона к народу. После чего народ мирно разошелся.
В Париже толпы грабили булочников на левом берегу Сены. Полиция произвела несколько арестов, стараясь не нагнетать обстановку и избегать открытых столкновений. Было предъявлено сто шестьдесят два обвинения. Двух мародеров, одному из которых исполнилось шестнадцать, повесили на Гревской площади одиннадцатого мая в три пополудни. Чтобы другим было неповадно.
В июле 1775 года молодой король и его красавица-жена должны были посетить лицей Людовика Великого. Подобный визит традиционно следовал за коронацией, но их величества не собирались задерживаться надолго – впереди их ждало множество других увеселений. Свита должна была дожидаться короля с королевой у главных ворот, где они выйдут из кареты, а самый прилежный из учеников прочтет приветственный адрес. В назначенный день погода испортилась.
За полтора часа до прибытия почетных гостей учеников и учителей выстроили у ворот на улице Сен-Жак. Конные полицейские без церемоний оттеснили их назад и заставили перестроиться. Редкие капли сменились густой моросью. Затем появились королевские приближенные, стражники и придворные. К тому времени, как они разместились у ворот, все успели промокнуть, замерзнуть и перестали искать место с наилучшим обзором. Никто не помнил последней коронации, поэтому никто не предполагал, что все так затянется. Ученики сбились в кучки, приплясывали на месте и ждали. Если кто-нибудь ненароком выступал вперед, полицейские отпихивали его назад, потрясая оружием.
Наконец показалась королевская карета. Теперь все стояли на цыпочках, вытянув шею, а самые младшие ныли, что, прождав столько времени, ничего не увидят. Директор отец Пуаньяр вышел из толпы, отвесил поклон и, обращаясь к королевскому экипажу, начал подготовленную речь.
Во рту у стипендиата пересохло, его руки слегка дрожали. Хорошо, что он будет читать на латыни и никто не заметит его провинциального акцента.
Королева высунула из окна хорошенькую головку и снова скрылась в карете. Король махнул рукой и что-то пробормотал человеку в ливрее, который с усмешкой передал его слова официальным лицам, а те, обращаясь к замершему в ожидании остальному миру, обошлись пантомимой. Все ясно – выходить их королевские величества не собирались. Приветственный адрес надлежало прочесть, обращаясь к карете, где уютно устроилась королевская чета.
Голова у отца Пуаньяра шла кругом. Следовало расстелить ковры, развесить балдахины, возвести временный павильон, украшенный зелеными ветками в модном деревенском стиле, а возможно, флагами с королевским гербом или венками из цветов в виде королевских монограмм. На его лице отображались ужас и раскаяние. К счастью, отец Эрриво сообразил подать знак стипендиату.
Стипендиат начал читать, голос постепенно набирал силу. Отец Эрриво выдохнул, он сам писал речь, сам готовил юношу. И теперь мог быть доволен – речь удалась.
Королева поежилась от холода.
– Ах! – прошелестело по рядам. – Она продрогла!
Спустя мгновение королева подавила зевок. Король участливо повернулся к ней. Но что это? Кучер натянул поводья! Тяжелый экипаж, заскрипев, сдвинулся с места. Они уезжали, не дослушав адрес, не ответив на приветствие.
Стипендиат как будто не заметил, что происходит. Он продолжал читать, глядя прямо перед собой, лицо было бледным и спокойным. Не мог же он не заметить, что карета катится по улице, унося прочь сиятельных пассажиров?
Невысказанные чувства повисли в воздухе. Мы готовились весь семестр! Ученики бесцельно топтались на месте. Дождь припустил с новой силой, но всем казалось невежливым рвануть сквозь толпу в поисках укрытия. Впрочем, они поступили бы не грубее, чем король с королевой, оставив Как-вас-там разглагольствовать в одиночестве посреди улицы…
– Не принимайте это на свой счет, – сказал ему отец Пуаньяр. – Мы не виноваты. Ее величество просто устала…
– Надо было обратиться к ним на японском, – заметил стоявший рядом юноша.
– В кои-то веки вынужден с вами согласиться, Камиль, – ответил отец Пуаньяр.
К тому времени стипендиат завершил свою речь. Без улыбки он тепло пожелал монархам, уже скрывшимся из виду, счастливого пути и выразил верноподданническую надежду, что в скором времени лицей будет иметь честь…
Рука сочувственно опустилась юноше на плечо.
– Не переживайте, де Робеспьер, на вашем месте мог оказаться любой.
И тут стипендиат позволил себе улыбнуться.
Это случилось в июле 1775-го в Париже. В Труа Жорж-Жак Дантон перевалил за половину отпущенных ему лет. Разумеется, его родные об этом не догадывались. Он хорошо учился, но едва ли вы назвали бы его уравновешенным. Будущее Жорж-Жака было предметом семейных дискуссий.
Однажды в Труа рядом с кафедральным собором человек рисовал портреты прохожих. Он делал наброски, посматривал на небо и мурлыкал себе под нос популярную, крайне привязчивую мелодию.
Никто не хотел становиться его моделью, прохожие торопливо проскакивали мимо. Впрочем, художника это не смущало – казалось, в этот погожий летний денек он нашел себе лучшее занятие на свете. Художник был не местный, одет с претензией, по-столичному. Жорж-Жак остановился напротив. Он колебался. Ему хотелось увидеть набросок и поговорить с художником. Он любил разговаривать с людьми, особенно с незнакомцами. Хотел знать все про чужую жизнь.
– Желаете портрет? – Художник на него не смотрел, потому что клал на доску новый лист.
Юноша засомневался.
– Вы студент, денег нет, я все понимаю. Но ваше лицо – Господи Иисусе, досталось же вам! В жизни не видал таких шрамов. Просто не двигайтесь, пока я набросаю углем несколько вариантов, а после получите самый удачный.
Жорж-Жак стоял смирно, косясь на художника уголком глаза.
– Только не разговаривайте, – велел ему тот. – Сейчас я одолею эту ужасную насупленную бровь и все вам расскажу. Итак, меня зовут Фабр. Фабр д’Эглантин. Забавное имечко. Вы спросите, почему д’Эглантин? Ну, раз уж вы изволили спросить, в тысяча семьсот семьдесят первом на литературном состязании в Тулузской академии мой талант почтили венком из эглантерий. Невероятное, поразительное признание поэтических заслуг, предмет зависти многих, не правда ли? Честно говоря, я предпочел бы маленький золотой слиток, но что поделаешь? Друзья заставили меня добавить к моему собственному имени этот довесок в память о грандиозном событии. Поверните голову. Нет, в другую сторону. Должно быть, вы спрашиваете себя, почему этот малый, чьи труды на литературном поприще оценены так высоко, рисует портреты на улицах?
– Вероятно, вы обладаете самыми разнообразными талантами, – предположил Жорж-Жак.
– Кое-кто из местных сановников пригласил меня почитать вслух мои сочинения, – сказал Фабр. – Впрочем, ничего не вышло. Я поссорился с моими покровителями. Наверняка вы слышали, с творцами такое случается сплошь и рядом.
Стараясь не вертеть головой, Жорж-Жак пытался рассмотреть художника. Лет около двадцати пяти, невысокий, короткие ненапудренные черные волосы. Сюртук был вычищен, но протерся на обшлагах, а рубашка износилась. Все, что Фабр говорил, звучало серьезно и несерьезно одновременно, а его лицо постоянно меняло выражение.
Художник выбрал другой карандаш.
– А теперь левее, – попросил он. – Говорите, мои таланты разнообразны? На самом деле я драматург, постановщик, портретист, как видите, а также пейзажист. А еще композитор, музыкант, поэт и балетмейстер. Еще я пишу эссе на любые общественно значимые темы и говорю на нескольких языках. Кроме того, мне хотелось бы заняться садово-парковой архитектурой, но пока у меня не было заказов. Увы, мир не готов меня принять. До прошлой недели я был бродячим актером, но остался без труппы.
Фабр закончил рисовать. Отбросив карандаш, он прищурился, держа наброски на вытянутых руках.
– Этот, – решил наконец художник. – Самый удачный, держите.
На Дантона с бумаги смотрело его некрасивое лицо: длинный шрам, расплющенный нос, густая прядь волос надо лбом.
– Когда вы прославитесь, – сказал Жорж-Жак, – этот портрет будет стоить немало. – Он поднял глаза. – А что случилось с другими актерами? Вы собирались дать представление?
Жорж-Жак не отказался бы увидеть пьесу. Его жизнь текла безмятежно и предсказуемо.
Неожиданно Фабр резко вскочил с табурета и показал неприличный жест в сторону Бар-сюр-Сен.
– Два наших славных лицедея плесневеют в деревенском узилище по обвинению в пьянстве и нарушении общественного по рядка, а нашу приму несколько месяцев назад обрюхатил какой-то жалкий сельский субъект, и теперь она годится лишь на самые вульгарные роли в низкопробной комедии. Труппа распалась. Временно. – Он снова сел. – А теперь о вас. – Глаза Фабра зажглись интересом. – Вряд ли вы готовы сбежать из дома и стать бродячим актером.
– Нет, не готов. Мои родные хотят, чтобы я стал священником.
– О, оставьте эту мысль. Знаете, как выбирают епископов? По родословной. У вас есть родословная? Посмотрите на себя. Вы деревенский юноша. Какой смысл заниматься чем бы то ни было, если нет надежды взобраться на самую вершину?
– Но достигну ли я высот, если стану бродячим актером? – учтиво спросил Жорж-Жак, словно и впрямь обдумывал такую мысль.
Фабр расхохотался:
– Вы можете играть злодеев. Успех вам обеспечен. У вас богатый тембр, только вы не умеете им пользоваться. – Он похлопал себя по груди. – Голос должен идти отсюда. – Фабр постучал кулаком ниже диафрагмы. – Представьте, что голос – это река. Отпустите ее, пусть вольно течет вдаль. Весь трюк в дыхании. Расслабьтесь, расправьте плечи. Дышите отсюда, – он ткнул себя в грудь, – и сможете говорить несколько часов кряду.
– Зачем мне это? – спросил Дантон.
– О, я знаю, что у вас в голове. Вы думаете, актеришки – низший слой общества. Ходячее дерьмо. Как протестанты. Как евреи. Тогда ответьте мне, юноша, чем вы-то лучше? Все мы черви, все дерьмо. Вы сознаете, что завтра вас могут упрятать в темницу до конца дней, если король подпишет бумажку, которую даже не читал?
– Не понимаю, зачем ему это, – сказал Дантон. – Я не собираюсь давать ему повода. Я простой студент.
– Все так. Просто попробуйте в ближайшие сорок лет не привлекать к себе внимания. Королю не нужно вас знать, как вы не поймете? Господи, чему вас теперь учат? Любой, любой, кому вы не понравитесь и кто решит убрать вас с дороги, может подсунуть королю документ: «Подпишите тут, ваше дурейшество», – и вот вы уже в Бастилии, в цепях, в пятидесяти футах под улицей Сент-Антуан, а компанию вам составляет кучка костей. Вы не останетесь в одиночестве – тюремщики не убирают из камер старые скелеты. А еще они вывели особую породу крыс, которая сжирает узников живьем.
– Как? По кусочку?
– Вот именно. Сначала пальчик, потом пяточка.
Он поймал взгляд Дантона, прыснул, смял испорченные листы и швырнул через плечо.
– Чтоб я сдох, – промолвил Фабр. – Ну и работенка – наставлять вас, провинциалов, на путь истинный. Сам не знаю, что я здесь делаю и почему не сколачиваю состояние в Париже.
– В скором времени я тоже надеюсь быть в Париже, – сказал Жорж-Жак. Его звучный голос осекся. До сей поры он не собирался никуда уезжать. – Возможно, там мы встретимся.
– Никаких «возможно», – сказал Фабр. Он поднял набросок, который признал не самым удачным. – Я сохраню в папке ваше лицо. Я непременно вас найду.
Юноша протянул ему мощную ладонь:
– Меня зовут Жорж-Жак Дантон.
Фабр поднял глаза, его подвижное лицо было спокойно.
– До свидания, Жорж-Жак. Учите право. Юриспруденция – это оружие.
Всю неделю он думал о Париже. Поэт-лауреат не шел у него из головы. Может быть, он и ходячее дерьмо, но, по крайней мере, кое-где побывал и волен идти куда глаза глядят. Дыши отсюда, повторял Жорж-Жак. Он попробовал. Все так и есть. Он чувствовал, что способен говорить дни напролет.
Бывая в Париже, мсье де Вьефвиль дез Эссар обычно заглядывал к племяннику в лицей Людовика Великого. Однако с недавних пор его мучили сомнения, и весьма обоснованные, относительно будущего Камиля. Его речевой дефект нисколько не уменьшился, а напротив, усилился. Когда мсье де Вьефвиль разговаривал с племянником, на губах юноши трепетала тревожная улыбка. Камиль запинался посреди фразы, и это смущало собеседника, а порой вызывало жалость. Вам хотелось закончить фразу за него, но с Камилем вы никогда не знали, к чему он клонит. Порой его высказывания начинались вполне тривиально, а завершались совершенно неожиданно.
Казалось, юноша не способен – в некоем более глубинном смысле – вписаться в то будущее, которое для него наметили. Он так робел, что вам чудилось, будто вы слышите в тишине стук его сердца. Тщедушный, хрупкий, с мертвенно-бледной кожей и копной черных волос, он поглядывал на дядю из-под длинных ресниц и не мог усидеть на месте, словно каждое мгновение искал повод ретироваться. Бедняжка, сокрушался дядя.
Впрочем, за пределами лицея его сочувствие мгновенно улетучивалось. Мсье де Вьефвилю начинало казаться, что его снова обвели вокруг пальца. Это было нечестно. Словно тебя спихнул в канаву калека. Ты можешь жаловаться, но, учитывая обстоятельства, едва ли это будет уместно.
Главной целью визитов мсье де Вьефвиля в Париж было участие в работе парламента. В те времена в парламент не выбирали. Де Вьефвили купили свое место и намеревались передать наследникам, возможно, Камилю, если тот изменит свое поведение. Парламент рассматривал судебные дела и одобрял королевские эдикты, подтверждая таким образом свои законодательные полномочия.
Время от времени парламенты становились непокорными. Парламентариям случалось выпускать декреты о тяжелом положении в стране, но только тогда, когда они чувствовали угрозу собственным интересам или, напротив, видели возможность улучшить свое положение. Мсье де Вьефвиль принадлежал к той части среднего класса, которая не стремилась сокрушить аристократию, а напротив, мечтала с ней слиться. Должности, посты, монополии – все имело свою цену и могло принести титул.
Парламентарии волновались, когда корона начинала отстаивать свои права, выпускала декреты по вопросам, которых не касалась раньше, и высказывала радикальные идеи управления государством. Порой им случалось не угодить королю. Противостоять властям было делом новым и рискованным, так что парламентарии ухитрялись быть одновременно архиконсерваторами и народными трибунами.
В январе 1776 года министр Тюрго предложил отказаться от феодального права, именуемого дорожной повинностью, – иными словами, от принудительного труда при строительстве дорог и мостов. Министр полагал, что состояние дорог улучшится, если поручить их заботам частных подрядчиков, а не крестьянам, которых оторвали от работы на полях. Но кто будет за это платить? Возможно, следует ввести налог на недвижимое имущество для каждого состоятельного человека, не исключая аристократов?
Парламент решительно отверг этот проект. После ожесточенных споров король заставил парламентариев утвердить отмену дорожной повинности. Тюрго стал всеобщим врагом. Королева и ее приближенные развязали против него настоящую войну. Король не выносил дрязг и не любил, когда на него давили. В мае он отправил Тюрго в отставку, и принудительный крестьянский труд был восстановлен.
Итак, одного министра сбросили; ничто не мешало повторить этот трюк. Как заметил граф д’Артуа в спину уходящему экономисту: «Наконец-то мы можем тратить деньги».
Если король не охотился, то запирался в мастерской, где возился с железками и замками. Он надеялся, что, если не принимать никаких решений, то избежишь ошибок. Не вмешивайся, и дела будут идти своим чередом, как шли испокон веков.
После того как прогнали Тюрго, Мальзерб тоже подал прошение об отставке.
– Повезло вам, – уныло промолвил король. – Хотел бы я последовать вашему примеру.
1776 год. Декларация Парижского парламента:
Первое правило закона – защищать любого, признающего его главенство. Это фундаментальная норма естественного права, прав человека и гражданского правления. Норма, основанная не только на праве собственности, но также на правах, которыми человек наделен по праву рождения и общественного положения.
По приезде домой мсье де Вьефвиль пробирался сквозь узкое скопление городских улочек и тесное скопление провинциальных сердец. Он заставлял себя навестить Жана-Николя в его высоком белом, забитом книгами доме на Плас-д’Арм. Однако с недавних пор мэтра Демулена одолевала одна навязчивая идея, и де Вьефвиль боялся этих встреч, страшился увидеть его озадаченный взгляд и вновь услышать вопрос, на который никто ответить не мог: что случилось с тем славным и красивым ребенком, которого отец девять лет назад отправил учиться в Като-Камбрези?
В день шестнадцатилетия Камиля Жан-Николя бродил по дому.
– Порой я думаю, – сказал он, – что получил испорченное маленькое чудовище, лишенное чувств и разума.
Он написал в Париж святым отцам, спрашивая, чему они учили его сына? Почему он выглядит так неряшливо? Почему в свой последний приезд соблазнил дочь городского советника – «человека, с которым я вижусь ежедневно с тех пор, как начал заниматься адвокатской практикой»?
Жан-Николя не надеялся получить ответы. Его истинное недовольство сыном основывалось на другом. Почему, хотелось бы знать, Камиль так эмоционален? Откуда у него эта способность возбуждать остальных: волновать, смущать, сбивать с толку? Обычные разговоры в присутствии Камиля живо сворачивали не на ту дорожку и превращались в горячие споры. Общественным условностям угрожала опасность. Придется следить, рассуждал Демулен, чтобы он не оставался наедине с другими людьми.
Никто больше не говорил, что его сын – маленький Годар. Де Вьефвили тоже не рвались признавать его своим. Братья Камиля росли и крепли, его сестры расцветали, но когда на пороге возникал старший сын мэтра Демулена, выглядел он подкидышем.
Возможно, когда Камиль повзрослеет, придется ему приплачивать, чтобы держался подальше от родного дома.