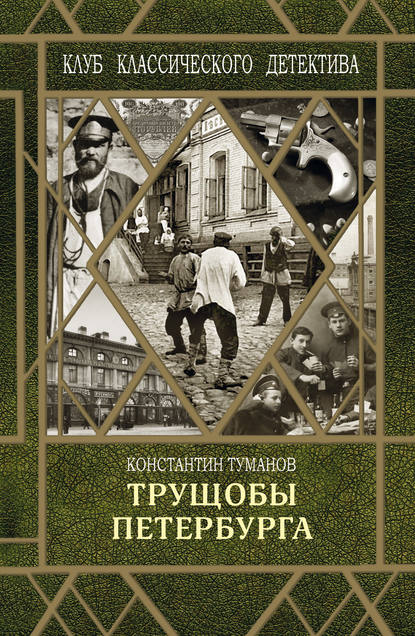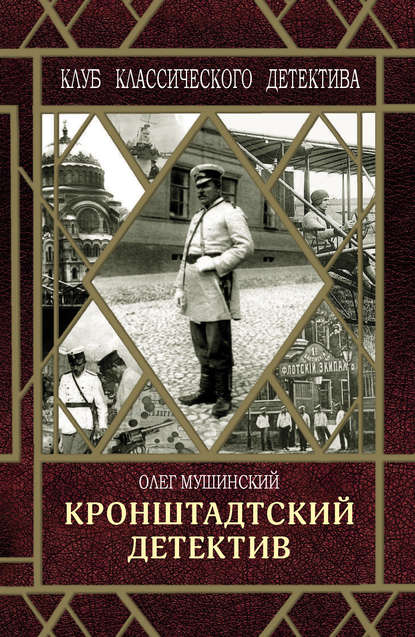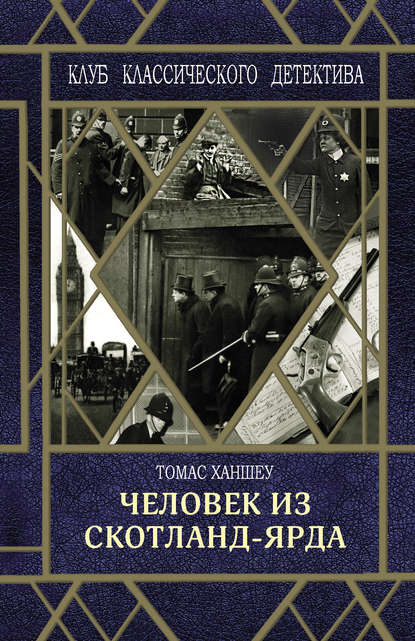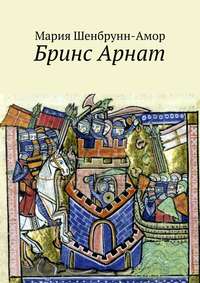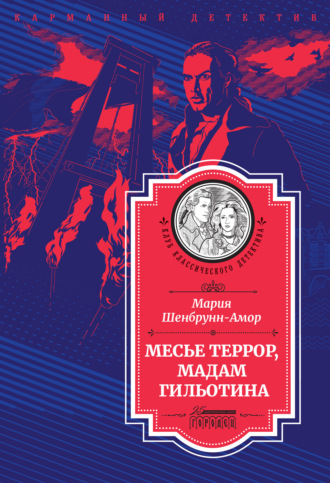
Полная версия
Месье Террор, мадам Гильотина
В ящиках секретера обнаружилась пустая склянка, оторванные пуговицы и нательный крест на цепочке с непонятными буквами на тыльной стороне. В нижнем потайном отделении оказалась тонкая пачка писем, перевязанная розовой ленточкой. Письма источали аромат нежной пудры. Габриэль с досадой убедилась, что все они на неизвестном языке. Но запах и мелкий почерк с хвостиками и завитушками могли принадлежать только женщине. Впрочем, до этого ей не было никакого дела. Захлопнула секретер. У кровати валялась книга с золотым тиснением на обложке – «Любовные похождения кавалера Фоблаза». Габриэль покраснела. О гривуазном романе она еще в монастыре наслышалась.
Пошарила под одеждой на верхней полке стенной ниши. Так и есть! Люди всегда прячут все самое ценное под бельем. Выудила тетрадь в сафьяновом переплете. Это оказался дневник. К сожалению, все записи тоже были на непонятном языке, только там и сям попадались французские фразы «Свобода, Равенство, Братство или смерть!», «Аристократов на фонарь!» и «Да здравствует Республика! Да здравствует Конвент!». На одной из последних страниц Ворне выписал слова революционной марсельской песни. Несомненно, учтивый молодой человек – восторженный якобинец. Предпоследняя длинная запись была помечена тринадцатым июля, по ней фразы по-французски были рассыпаны особенно густо: «Марат убит!»; «Любовь к свободе и ненависть к тиранам»; «Эти несчастные люди требуют моей смерти. Они должны воздвигнуть мне алтарь, я спасла их от чудовища!»; «Добрые патриоты, ее нельзя убивать, пока мы не раскроем весь заговор!» Все это могло относиться только к аресту Мари. Да, бесспорно, месье Ворне описывал арест Шарлотты Корде! Но все эти подробности стали известны из газет только на следующий день – четырнадцатого июля. А он описал их еще под тринадцатым числом, причем, судя по французским выражениям и точным цитатам, он сам все это слышал. Значит, он был на месте убийства. Может, в Пале-Рояле он вовсе не за Габриэль следил, а за Шарлоттой? И видел их вдвоем!
Из дневника вывалилась сложенная записка. Внутри чуть выцветшими чернилами было начертано: «Прошу оказать подателю сего всю необходимую помощь. Он послан мною, дабы наше дело восторжествовало». И подпись: «Виконт де Ла Файет, генерал-майор». Так вот кто прислал в Париж гражданина Ворне! «Новый Кромвель», генерал Лафайет, зачинщик революции, сначала предавший короля, а потом и революционеров, год назад бежавший из республиканской армии в Австрию и, по слухам, заключенный там в тюрьму.
Габриэль вложила письмо обратно, засунула тетрадь на прежнее место и поспешила в спальню Базиля Ворне. В этой комнате царили порядок и слегка затхлый старческий дух. Рыться в вещах пожилого человека было еще более стыдно, чем в комнате молодого повесы. Но что делать? Она обязана узнать, кто эти люди, потому что в их руках ее жизнь. В углу стоял запертый на большой замок и окованный железом неподъемный сундук. На прикроватном столике лежало письмо. По-французски! Аллилуйя!
Легкий стук в дверь и отчаянный шепот Жанетты перебили чтение:
– Мадемуазель Бланшар, старик обратно прется! Уже по двору идет!
«…преслужник Тизон и его жена бдительна слидят за королевой и доносят… из-за таво что в Тампле идут строительные работы…» Судя по правописанию и корявому почерку, письмо вряд ли писал сам месье Ворне.
– Мадемуазель!
Габриэль выхватывала отдельные фразы, стараясь уяснить хотя бы общий смысл: «…караульный сминяются в 11 утра, в 5 часов вечера и в полночь… Каждый день в семь часов под их окнами нанятый крикун громко саабщает новости…»
– Мадемуазель Бланшар! – отчаянно прошипела Жанетта.
Габриэль бросила письмо и понеслась к черному ходу.
Уже на темной лестнице прижалась к стене, перевела дыхание, вытерла лоб. Проникнуть в чужой дом, рыться в чужих вещах и письмах – поступок, конечно, совершенно неприличный. Тетка ужаснулась бы. Зато она узнала самое главное: Ворне – иностранцы, а раз их прислал находящийся в Австрии Лафайет, то, видимо, они прибыли сюда с какой-то тайной австрийской миссией. Они собирают сведения об условиях заключения и охраны Марии-Антуанетты, молодой Ворне присутствовал при убийстве Марата и навязывает свои услуги якобинцу Ромму. Похоже, у соседей полно собственных веских причин опасаться разоблачения. Теперь у нее тоже есть управа на них, достаточно будет намекнуть, что для них выгоднее держать язык за зубами. А вдруг, испугавшись, они сдадут ее первыми? Боже, до чего она докатилась! Нет-нет. Все дозволено тому, кого преследуют.
ВЕЧЕРОМ С НАИГРАННЫМ равнодушием сообщила тетке, что соседи – иностранные шпионы, которые зачем-то следят за королевой. У мадам де Турдонне выпал из рук столовый нож. Тут же пристала к Габриэль так, что пришлось ей все рассказать в подробностях.
– Вы тайком залезли к ним в дом?
– Мадам, оставьте. В сегодняшнем мире нет места благовоспитанным девицам.
Тетка от нравоучений воздержалась. Даже промолчала, когда Габриэль корочкой подтерла со дна тарелки остатки чечевичного супа.
– Раз у них рекомендательное письмо от Лафайета, то, вероятнее всего, они выполняют какое-то поручение австрийского двора.
– Между собой они говорят не по-немецки. Я никогда такого языка не слышала. Немножко похож на португальский, но ни единого слова не понять. И дневник свой молодой Ворне пишет так, что я даже буквы не узнаю.
– Они могут быть и мадьярами, и чехами, и кем угодно. Но если их прислала Вена, то не с благородными намерениями. Я доподлинно знаю, что австрийские родственники не собираются спасать ее величество.
– Откуда вы это знаете?
Франсуаза дернула плечом:
– Уж столько раз самые преданные королеве люди молили императора о помощи, просили хотя бы денег. Франц Второй и пальцем ради родной тетки не шевельнул, у Вены свои планы на французский престол. Все забыли дочь Марии-Терезии, даже собственная семья. Я иногда подозреваю, прости господи, что австрийский император заинтересован в гибели ее величества.
Тетка просто свихнулась на несчастьях Марии-Антуанетты.
– Мадам, умоляю вас, держитесь от королевы подальше. Ей уже ничем не поможешь, а нас еще можно погубить.
– Вы думаете, Ворне нас в чем-то подозревают?
– Похоже на то. Этот Александр за мной следит. Я уже несколько раз замечала его за собой.
Франсуаза усмехнулась, бросила насмешливый взгляд на Габриэль. Глаза у виконтессы были маленькие, но такие озорные и выразительные, что, глядя на нее, легко было поверить, что именно маленькие глазки – эталон привлекательности.
– За вами, душа моя, только слепой не следил бы. Вот если бы они за мной следить начали, тогда бы я встревожилась.
– Почему, мадам? Что вы такого делаете?
Тетка вместо ответа наполнила бокалы кислым пикетом из виноградных выжимок. Она что-то скрывала. Впрочем, Габриэль тоже утаила от нее свою встречу с Мари Корде. Бедняжка Франсуаза и так ночами не спала. Похоже, теперь у всех имелись тайны, в которые лучше не посвящать никого, даже самых близких.
VI
АЛЕКСАНДР ПО-ПРЕЖНЕМУ не знал, что думать о мадемуазель Бланшар, но думал о ней постоянно. Прелестная девушка оказывалась замешанной во множестве сомнительных происшествий. Правда, несчастная Шарлотта Корде бестрепетно поднялась на эшафот в алом одеянии отцеубийцы, так и не обвинив ни в чем Габриэль. Да и гнусному навету домовладелицы, что соседки якобы донесли на булочника, он ни на секунду не поверил. Но раз он все-таки выслушал поклеп мерзкой бабы, то, как человек чести, теперь был обязан опровергнуть его, а заодно разобраться в судьбе мадам де Жовиньи. Просто чтобы увериться, что дамы к этим трагедиям совершенно непричастны.
Вот только с утра дела чести пришлось отложить: дядюшка вознамерился принять свою еженедельную ванну, а тут не родное Рогачёво, где двести человек челяди и достаточно приказать истопить баньку. Сам Александр в Париже посещал городскую мыльню у моста Турнель, там даже горячая вода имелась, но брезгливый Василий Евсеевич наотрез отказался появляться в этом «рассаднике неаполитанской заразы». Пришлось идти к Жанетте, одалживать огромный чан, волочь его на кухню, потом десять раз бегать с ведрами к уличному колодцу, одновременно растопив печь и нагревая натасканную воду в котле. Наконец все было готово для омовения.
Дядюшка с сомнением оглядел высокую бадью:
– И как в эту бочку забираться? Ну и пакость же – это чужеземное мытье в лоханке! Да ты со мной не сиди, милый друг, иди куролесь, я прекрасно сам со всем справлюсь.
Скинул с дородного, но крепкого тела шлафрок, оставшись в муслиновой сорочке, со стоической миной пытаемого римлянами мученика вскарабкался на табурет и с него плюхнулся в воду. Александр подтер с паркета лужи и укутал края ванны вокруг дядюшки простыней, чтоб вода не стыла.
Василий Евсеевич покряхтел, устроился в бадье поудобнее, попросил:
– Угоди старику, принеси газеты. И чашечку кофия свари.
– Кофий у нас только желудевый, – предупредил Александр, с сомнением нюхая коричневый порошок.
– Очень плохо, – пожурил его дядюшка. – Спрашивается, за каким чертом собрались освобождать чернокожих в Санто-Доминго, когда это лишает нас кофия и сахара!
– Не может нация, выбравшая свободу, оставить людей рабами.
– Экие глупости! Дворян обезглавили, крестьян реквизициями продовольствия ограбили, торговлю максимальными ценами уничтожили, богатых принудительными займами разорили и последний сук, на котором сидели, колонии, и тот усердно под собой пилят. Зато хорошим тоном стало рубить головы и одеваться как сапожник, – Василий Евсеевич кинул осуждающий взгляд на длинные портки племянника, недовольно поплескал ногами: – Холодно что-то, дружок. Ты не сиди как в гостях, подливай кипяточку-то. – Принял из рук Александра готовый кофий, попробовал, сморщился, вернул чашку: – Нет, не понимаю, что ты в этом напитке находишь. Уж насколько я неприхотлив, но эту санкюлотскую бурду пить решительно не могу. Мало того, что эти разночинцы данную от Бога власть свергли, они нас еще и желудевым отваром потчуют!
– Дядя, эти разночинцы – великие люди, светочи человечества! С Вольтером сама императрица переписывалась, а Дидро к ней даже в гости приезжал, и она с ним подолгу беседовала.
– Это не Дидероты и Жан-Жаки великие, а императрица наша великая. Своим государственным умом и деяниями воистину великая. И сердцем. И на троне не благодаря голытьбе сидит.
– Ага, благодаря братьям Орловым, – бунтовщически пробормотал под нос Воронин. – Россия наша, дядюшка, здесь за оплот деспотизма почитается. Если у нас судьбы крестьянские не облегчат, еще пострашнее революция грянет.
– Нахватался ты по наивности вредоносных идей, Саня. Всякое государство на порядке, богобоязненности и уважении к начальству покоится, а не на этих их либерте-эгалите-фратерните! Тут революция не от тягот народных приключилась, а от избытка образованных бездельников, которые себе занятия не нашли. Вон крестьянская Вандея живота своего не жалеет ради возвращения прежних порядков и своих неприсягнувших священников. Табакерку принеси, сделай милость.
Василий Евсеевич заложил понюшку табака между большим и указательным пальцем, вдохнул, почихал оглушительно в свое удовольствие и пояснил свою мысль:
– У нас, слава богу, каждый при деле: крестьянин пашет и сеет, купец торгует, заводчик железо добывает, духовенство службы служит, дворянство воюет, чиновник ворует, государыня всю Россию матерным попечением благодетельствует. А здесь образовался излишек адвокатишек, способных только языком трепать. Ведь эти жакобены все как один – подьячие: Робеспьер, Дантон, Демулен… Все о своих неотъемлемых якобы правах возомнили, и всем помстилось, что они достойны лучшего. Самолюбие-то и взыграло. Ничего нет хуже страны, где много никчемных людей без своего места.
Нет, хоть дядюшка и прекрасный человек, а все же ужасный ретроград!
– Василь Евсеич, сама государыня дворянству вольность дала, права городов обеспечила! И во Францию вас разве не за полезными соображениями для новых наказов послала?
Дядя с сокрушением взглянул на любимого племянника:
– Зря ты, Сашенька, в отставку вышел. Это ты с тех пор дурью-то маешься. Мы эту вольность уже на Яике повидали. Хватит, насмотрелись. Меня матушка по делу человеколюбия послала, а не Российскую империю подпаливать. – Подтянул к себе газеты. – Подожди немного, и такие прекраснодушные обормоты, вроде тебя, вот эти самые вольные дворяне, в поисках великих подвигов мятежниками-то и заделаются. Мудрая государыня войну Речи Посполитой еще и для того объявила, чтобы после победы над османами офицеры по безделью не начали заговоры и бунты устраивать. – Опустил взор на газетную страницу сердито заметил: – Ничего не вижу. Как я, по-твоему без окуляров читать должен? – Водрузил очки на переносицу потребовал ручное полотенце – разве Александр сам не видит, что от мокрых рук бумага расползается?! – А Францией нынче одни болтуны правят: самые зычные остальных на гильотину отправляют.
– У власти те, за кем народ идет. – Александр снял с огня котел, долил в чан кипятка. – Нравится нам или нет, а нация сейчас за якобинцами следует.
Дядя сквозь запотевшие очечные линзы скептически рассмотрел племянника:
– Поосторожней, ошпаришь! Кто этот их жакобенский клуб выбирал? Кто Парижскую коммуну выбирал? Никто. Санкюлоты пришли к власти на пиках и дубинках, и не они за жакобенами идут, а те стараются впереди городской голытьбы бежать и черни угождать. Парижский сброд свою власть почуял и кровью упивается. Такую тиранию только террором и удержишь. – Сердито зашуршал страницами: – Смотри, что творится: тело Шарлотты Корде судебной экспертизе подвергли на предмет установления девственности. А разлагающийся труп божественного Марата таскали по улицам до тех пор, пока вонища не замучила. Эти зрелища у них нонче вместо хлеба. – Левиафаном пошевелился в ванне, отчего выплеснул на паркет очередной водяной вал, грустно заметил: – Тоскую я по квасному пару да по веничкам березовым. И сердце нечем тут развеселить. Принеси хоть вина графинчик.
Наконец дядюшка умаялся выносить все неудобства принятия ванны. Александр ему спину подраил, чистой подогретой водичкой ополоснул. Василий Евсеевич с кряхтеньем и с Сашиной помощью выкарабкался из бадьи, обтерся полотенцами и простынями, плотно запахнулся в шлафрок, натянул фуляровый колпак и, невзирая на июльскую жару, туго обмотался вязаной шалью. Окна открывать строго-настрого запретил.
– Кому нужен этот проклятый свежий воздух? От тепла еще ни единый русский человек не умер, зато от сквозняков – сколько угодно. – Рухнув в изнеможении в кресло, простонал: – Мука-то какая – эти ванны! Неудивительно, что народ тут не моется, одними парфюмами поливается!
Александр вычерпал бадью, в который раз подтер пол и, заметив, что измученный мытьем дядюшка задремал, поспешил в канцелярию Дворца правосудия – разузнать там о судьбе мадам де Жовиньи и пекаря Нодье. Что бы Василий Евсеевич ни говорил, надо отдать должное революционному правосудию: с летр де каше – тайными королевскими приказами о бессрочном заключении – покончено. Французское судопроизводство стало публичным, и все решения трибунала теперь записывались.
В канцелярии Дворца правосудия воняло потом и ветошью, стены украшали Декларация прав и текст конституции. У стойки с трехцветными флагами топталась очередь, которая ждала так покорно и смирно, словно великое множество висевших на стенах списков гражданских прав и свобод не имело к ней ни малейшего отношения. Терпеливо переминался и Воронин, прислушиваясь к писарю, назидательно зачитывающему юному санкюлоту из огромной регистрационной книги:
– Луиза-Катерина-Анжелика Рикар второго августа тысяча семьсот девяносто третьего года привлечена к суду за то, что рукоплескала убийству божественного Марата и говорила: «Он сам учил не жалеть крови». Казнена в тот же день. Распишись вот тут, гражданин. Новые постановления комитетов хочешь купить? Нет? Тогда с тебя пятнадцать су. Свобода, равенство, братство или смерть, гражданин!
Женщине с усталым лицом чиновник сообщил, что ее мужа, дровосека Реми Жансона, судили за то, что у Ансельской заставы тот кричал: «Да здравствует король!» – а на суде пытался оправдаться тем, что был пьян, но суд счел это отягощающим обстоятельством.
– Пятнадцать су, гражданка. Брошюры какие-нибудь нужны? Нет? Привет и братство.
Не всем так «везло». Приговора над бывшим кровельщиком и капралом двадцать девятого пехотного полка в архиве не обнаружилось, и его мать потерянно гладила конторку заскорузлыми, сморщенными от вечной работы руками, пока ее не отпихнули следующие посетители.
Затем Александр выслушал постановления суда над гражданином, агитировавшим против воинского набора, над не присягнувшим конституции священником, над графиней де Сенозан, которая выразила надежду, что вымерзшие виноградники заставят народ отрезветь, и еще над несколькими предателями Отечества. Чем очевидней были победы революции, тем – странное дело! – все больше врагов у нее оказывалось. Если верить вердиктам трибунала, заговоры о восстановлении монархии, попытки заморить французский народ голодом и шпионаж в пользу Англии множились с каждым днем.
Наконец подошла очередь Воронина. Канцелярист монотонно зачитал ему, что мадам Элоизу-Мари-Диану де Жовиньи Даржансон Бойе, бывшую дворянку шестидесяти восьми лет от роду проживавшую в парижской секции Дома коммуны, судили за «аристократические речи», которые она держала в присутствии многих людей в своем квартале. Вышеозначенная аристократка говорила, что Национальный Конвент состоит из воров и убийц. «Признана виновной в речах, клонящихся к посрамлению и роспуску национального представительства и к восстановлению королевской власти. При обыске в доме у нее обнаружили письма, содержащие роялизм и фанатизм. Сын осужденной был эмигрантом. Приговорена к смертной казни и казнена 7 июля 1793 года».
– А кто ее обвинил?
– Фукье-Тенвиль.
– Это понятно. – Фукье-Тенвиль был бессменным общественным обвинителем трибунала. По слухам, он даже ночевал в своем кабинете, урывая от производства смертных приговоров лишь пару часов сна. – А кто сообщил о ее речах-то?
– Гражданин, это французский народ против Элоизы де Жовиньи. Теперь ускоренное судопроизводство. Обвинение рассмотрено трибуналом, признано присяжными справедливым, приговор вынесен. Списки подозрительных лиц дать?
– А еще булочник Батист Нодье. Его казнили в середине июля.
Канцелярист перелистывал страницы гигантского регистрационного списка, напевая под нос:
– Батист Нодье, Батист Нодье… А, вот он! Точно, казнен. – Водя пальцем, зачитал: – «Заявил, что те, кто тоскует по белому хлебу, пусть пеняют сами на себя».
– Что это значит? – обомлел Воронин. – За это его казнили?
– Чего ж тут неясного? Вот трибунал постановил, что тем самым Батист Нодье обвинил революцию в нехватке белого хлеба и выразил желание, чтобы вернулись прежние времена. В приговоре сказано, что данные речи носили ярко выраженный антиреволюционный характер.
– А об этом кто сообщил?
– Донесение анонимное, но булочник на суде от своих слов не отказывался. Напротив, продолжал злонамеренно клеветать, что багет является национальной ценностью Франции наряду с равенством, свободой и братством. Тексты революционных песен с нотами хочешь? Нет? Тогда с тебя за две выписки тридцать су. Да здравствует нация единая и неделимая!
Ошеломленный Александр вышел на улицу. Несчастный пекарь, погибший за то, что сказал очевидное. И знает ли сын мадам де Жовиньи, что его мать казнили?
НОГИ САМИ ПРИНЕСЛИ на правый берег в привычное место – бывший Тюильри, нынешний Национальный дворец. По вестибюлю с колоннами навстречу Воронину шел низенький субтильный человечек в несуразно большом парике, фисташковом фраке и кюлотах верблюжьего цвета. Депутат напоминал вставшую на задние лапы мышь. Публика при его приближении затихала и раздавалась, как воды Чермного моря перед Моисеем, один Александр замешкался и чуть не столкнулся с ним. Человечек сфокусировал на нем светлые, равнодушные, постоянно моргающие и одновременно словно стеклянные глаза. От его взгляда василиска по позвоночнику пополз холод. Воронин застыл. Чопорный щеголь молча обогнул его и прошел в Зал равенства, где заседал Конвент. Встречные провожали Робеспьера почтительным молчанием. Этот тщедушный старомодный франт с огромной головой и востроносым мертвенно-бледным личиком был самым влиятельным и самым страшным человеком во Франции.
Александр предъявил приставу у входа в зал свидетельство о благонадежности и поднялся на галерею для публики. Скамьи тут занимали знаменитые «вязальщицы Робеспьера». Эти бабы оказывались везде, где революция творила свои дела: они с самого утра заполняли помещение суда, встречали одобрительным шумом каждый приговор и провожали смертников на эшафот, закидывая несчастных огрызками яблок. И все это не выпуская из рук вязания. Шли слухи, что их энтузиазм оплачивала Парижская коммуна.
Внизу, в огромном амфитеатре бывшего театрального зала, шло очередное заседание Национального Конвента. Верхние ряды занимали якобинцы, их так и прозвали – монтаньяры, то бишь горцы по-французски. Внизу сидело болото – депутаты, готовые всегда голосовать с властями предержащими. Перед полупустым залом Бийо-Варенн торжественно призывал незамедлительно судить и казнить королеву, которую называл вдовой Капет. Максимилиан Робеспьер поднялся на трибуну и занял свое место в президиуме.
Бийо-Варенн эффектно заключил свою речь:
– Эта женщина, позорище человечества и своего пола, должна наконец искупить свои преступления на эшафоте!
Робеспьер резко кивнул напудренной головой и передернул плечами, как будто у него защемило нерв. Вязальщицы тут же разразились одобрительными выкриками:
– Отрубить голову Мадам вето! Казнить австриячку! Виват республике!
Александр вышел в бывший монастырский сад, уселся на тенистой террасе дощатого павильона, где торговали прохладительными напитками и кофием. Было одуряюще жарко, пахло пылью и сырым камнем. Посетители – депутаты, чиновники, канцеляристы, просители и просто любопытные – обсуждали за столиками предлагаемые декреты, свои дела и новые призывы популярной газеты «Папаша Дюшен».
Воронин машинально опустошил чашку кофия и сжевал черствую бриошь, не замечая вкуса. Мысли его вернулись к судьбе мадам де Жовиньи. Несдержанную на язык склочницу казнили, а залог перешел в собственность ломбарда. Скорее всего, с рехнувшейся аристократкой неизбежно случилось то, что должно было случиться с каждым, кто во всеуслышание ругает революционную власть, но уж очень вовремя для ростовщика закладчица завершила свой земной путь. Ее казнь позволила Рюшамбо выставить крест на продажу, а старорежимные дамы, которые даже с пекарем не могли расплатиться, внезапно изыскали средства вернуть себе родовой герб. Неужели кто-то из них позаботился о том, чтобы мадам де Жовиньи не дожила до выкупа своих драгоценностей?
Если бы не чудовищное уверение Планелихи, что соседки донесли на булочника, если бы не встреча мадемуазель Бланшар с Шарлоттой Корде, никогда бы Александр не посмел заподозрить благородных дам. Нет, невозможно поверить! Террор свирепствовал, все случившееся могло оказаться лишь совпадением. Так много доносов, так много доносчиков, почему именно соседки? Но если надо спрятать песчинку, где это сделать легче всего? На берегу моря. Где легче всего доносить, не возбуждая опасения и не привлекая к себе внимания? Там, где доносы стали обыденностью.
Александр не спрашивал себя, какое ему дело до поступков Габриэль Бланшар. Он был обязан выяснить, виновны ли в творящихся вокруг них смертях две обнищавшие и гонимые аристократки. Воронин смахнул последние крошки воробьям, встал и направился к бывшей хлебной лавке Нодье.
Мимо проехала «корзинка для салата» – закрытая карета с зарешеченными окнами, в которой перевозили заключенных. Прохожие равнодушно уступали ей дорогу. Офицер точил саблю о ступени дома. Торговец предлагал прохожим украшения с камнями Бастилии и лубочные картинки со сценами ее взятия. Мальчишка махал кипой газет и звонко вопил: «Лион сопротивляется! Полный список заговорщиков, получивших выигрыш на лотерее гильотины! Тулон сдан англичанам! Робеспьер возглавил Комитет общественного спасения! Отныне комитет Дантона стал комитетом Робеспьера!» Единственное, что в Париже имелось в избытке, – это газеты и новости.
Пекарня была закрыта, но он же не за хлебом явился! Александр со всех сил заколотил в дверь кулаками и ногами. Ему открыла жена пекаря. Он помнил мадам Нодье веселой и услужливой и теперь с трудом узнал прежнюю улыбчивую толстушку в усталой и мрачной женщине.
Прижав руки к груди, выпалил заранее приготовленную, краткую, зато убедительную речь:
– Мадам Нодье, простите, мне очень важно узнать, кто донес на вашего супруга. У меня есть подозрение, ужасное подозрение, и я должен снять его с одного близкого мне человека.