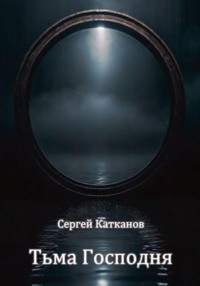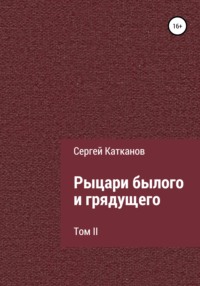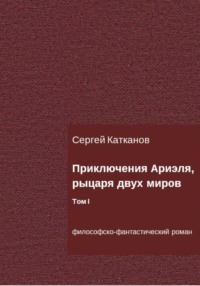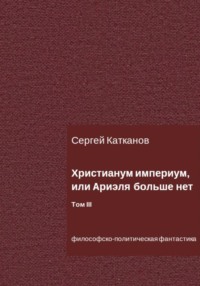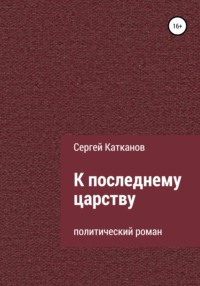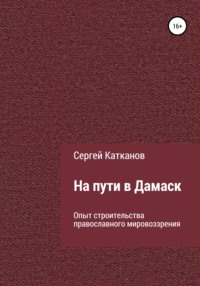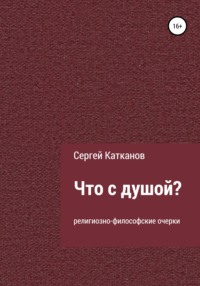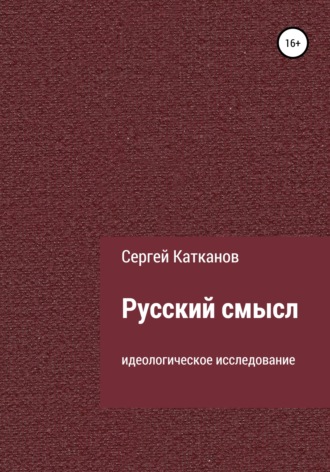 полная версия
полная версияРусский смысл
Давайте задумаемся, а что такое для среднего человека справедливость? Это всегда и только то, что ему хочется. Справедливость это не то, что должно быть, это то, что радует человека. Любой из нас много раз слышал: «Мне недоплатили! Это несправедливо!» А кто-нибудь хоть раз в жизни слышал: «Мне переплатили! Это несправедливо!» Объективно говоря, переплата – это такая же несправедливость, как и недоплата, но ни кто по этому поводу не вопит. Все требуют справедливости, но ни кому она на самом деле не нужна, все хотят только побольше урвать. К тому же нет ни каких объективных критериев, исходя из которых можно было бы определить, что справедливо, а что нет. Даже если человек, позабыв о собственной выгоде, будет искать объективной справедливости, он всё равно останется неизбежно субъективен.
Вот, скажем, при советской власти директор предприятия получал лишь раза в три больше, чем уборщица. И это было несправедливо по отношению к директору. Сейчас директор может получать раз в сто больше, чем уборщица. И это несправедливо по отношению к уборщице. Мне кажется, было бы справедливо, если бы первая и последняя зарплата на предприятии отличались раз в десять. Но это моё субъективное представление. Боюсь, это не показалось бы справедливым ни уборщице, ни директору.
Деникин в своих воспоминаниях писал, как однажды путешествовал на паровозе, и вот кочегар всю дорогу ворчал, что машинист получает в три раза больше его, а сам только ручкой вертит. С точки зрения кочегара это вопиющая несправедливость, потому что его труд куда более тяжелый. А если бы уравнять им зарплату? О несправедливости завопил бы машинист, потому что его труд куда более квалифицированный и ответственный.
Так вот «Великий Октябрь» был революцией кочегаров. Кухарок, свинарок и пастухов. Когда кровавое безумие большевизма поулеглось, советская власть создала царство уравниловки. Для огромных масс неквалифицированных работяг уравниловка – это и есть справедливость, потому что им уравниловка выгодна. Для квалифицированных специалистов уравниловка – вопиющая несправедливость. Советская власть была очень выгодна огромным массам бездарей и бездельников, которые ни чего толком делать не умели, да и научиться не пытались, но ни когда не рисковали остаться без работы и получали примерно столько же, сколько и все вокруг. Не в этом ли и есть один из секретов очарования советской власти для «широких народных масс»? Но с чего бы доктору экономических наук поддаваться этому очарованию?
Михаил Делягин пишет: «Люди, которые говорят, что советская история не является российской, русской, хотят откреститься даже не от своего прошлого – они хотят откреститься прежде всего от самих себя». Истинно так, Михаил Геннадьевич, истинно так. Пытаясь «откреститься от советского прошлого», я пытаюсь откреститься прежде всего от самого себя, то есть от всего, что есть во мне скверного, гадкого, советского, а оно, конечно, есть, потому что нельзя было безнаказанно прожить в СССР 28 лет. Я дышал советским воздухом, смотрел на мир глазами советского человека, и если не полностью, то в значительной мере разделял советские ценности, и навсегда остался ими отравлен. Я хочу отречься, откреститься от советской части самого себя, но полностью это сделать мне ни когда не удастся. Я очень рад тому, что наши дети не будут нести в себе советской заразы, и тот, кто сегодня распространяет эту заразу, оказывает своим детям очень дурную услугу. По-вашему «отречься от самого себя» – это всегда плохо? Нет, это всегда тяжело, но иногда необходимо. Скажите своим детям: «Вот этому и вот этому в нас ни когда не подражайте». Это очень трудно сказать. Но так надо.
Делягин настаивает: «Сегодня российская идентичность в том виде, в котором она вообще существует, является советской. Поэтому попытки разрушения советской идентичности являются попытками уничтожения российской идентичности…» Не в полной мере, но до известной степени так и есть – современная российская идентичность во многом продолжает оставаться советской. Но откуда такое смирение перед фактами? На чем основана уверенность в том, что любой факт – это уже благо? Может быть, советский компонент российской идентичности и надо как раз всеми силами разрушать, если мы хотим увидеть лучшие дни? Не стоит идти за толпой уже хотя бы потому, что толпа сама ни когда не знает, куда ей стоит идти. Но демократу это, наверно, трудно понять.
Только недавно я понял и оценил замечательные слова Булата Окуджавы: «Но из грехов нашей Родины вечной не сотворить бы кумира себе». Так вот не сотворите себе кумира из грехов нашей Родины. У нашей Родины, так же, как и у любого человека, есть свои грехи, свои дурные наклонности, поэтому не всё, что было в нашей истории, обязательно хорошо. Но патриоту это, наверное, трудно понять.
Осудить советскую власть – вовсе не значит осудить поколение наших родителей. Православный человек хорошо поймет, что осудить грех – не значит осудить грешника. Мы любим своих родителей, любим свою Родину, но это нелепость – считать, что они ни когда не ошибались. Двойная нелепость – канонизировать их ошибки.
И вдруг у Михаила Делягина появляется фрагмент, который очень плохо согласуется с общим строем его мысли, но зато очень хорошо согласуется с тем, что пытался сказать ваш покорный слуга. Я вполне согласен со следующими его словами: «Мои родители – это мои родители, и ни кто кроме меня и тех, кто общался с ними лично, не смеет давать им оценки. Я люблю и уважаю их такими, какими они создали меня и, не принимая их недостатки и трагедии, принимаю и признаю их в целом: это неотъемлемая часть меня. И я изучаю их недостатки не для того, чтобы пенять им тогда, когда уже ни чего не поделать, а чтобы не дать им проявиться во мне в той или иной форме, ибо, как их сын, я к ним предрасположен».
***
Все идолы нашего капища так или иначе связаны с попытками людей научиться жить без Бога. И демократия, и равенство, и свобода, и патриотизм, и социализм являются логическими выводами из безбожия и органично с ним связаны. Всё то, что уводит людей от Бога, заменяет им Его, уже отлито в бронзе, и это лучше всего характеризует современный мир. В нашем мире не запрещено быть христианином, надо только являться одновременно с этим идолопоклонником, то есть христианином всё-таки быть запрещено.
Что из этого следует? Только одно: всё идет согласно Священному Писанию, то есть всё идёт к царству Антихриста. Мы не можем ниспровергнуть ни одного из идолов, которым поклоняется наш мир. Это вам не Перун, в речку не бросишь. Но каждый человек в состоянии отказать идолам во власти над собственной душой. Со Христом это возможно.
Часть третья. Идолы и смыслы
Что такое смысл?
Большинству людей не нужен ни какой смысл. Ни в собственной жизни, ни в жизни страны. Дело не в том, что у нас сейчас «духовный кризис». Не без этого, конечно, но по большому счету всегда так было – большинство людей живет очень примитивными, преимущественно материальными потребностями. Бессмысленно по этому поводу рвать на себе волосы. Абсурдно призывать сограждан обратиться от низкого к высокому. Глупо надеяться, что широкие народные массы, если их надлежащим образом воспитывать, на первое место в своей жизни поставят вопрос о смысле человеческого существования. Этого ни когда не будет. И это ни хорошо и не плохо. Такова данность. Такова неотменимая структура любого общества. Для широких масс вопрос о смысле жизни всегда будет иметь характер комический – дескать, не лень же кому-то забивать себе голову ерундой.
Ещё гностики делили людей на «физиков» (людей тела), «психиков» (людей души) и «пневматиков» (людей духа). Это очень точная классификация, из неё лишь надо убрать свойственное гностикам высокомерие, и не думать, что это деление людей на первый, второй и третий сорт. Здесь все три сорта – первые. По простому говоря, «хорошие люди» есть в любой из этих категорий.
«Физиков» в любом обществе всегда подавляющее большинство. И не надо осуждать людей, живущих исключительно потребностями тела, они имеют право на существование уже хотя бы потому, что без них ни какое общество существовать не может.
«Психики», то есть «люди души», имеют устойчивую потребность в удовлетворении интеллектуальных и эстетических потребностей, а так же особых страстей – гордыни, тщеславия и т.д. В Советском Союзе, когда «Бога отменили», то, что связано с запросами «психиков», начали называть «духовностью»: любовь к искусству, например, заинтересованность наукой и т.д. На самом деле это не духовность, а «душевность», то есть стремление к удовлетворению запросов души, а не духа. Эта подмена происходит потому, что материалисты вообще отрицают существование духа.
«Пневматики» имеют, конечно, и телесные, и душевные запросы, но они подчинены у них потребностям духа, развитого в той или иной степени. Само собой, «пневматики» в любом обществе – едва заметное меньшинство.
Что такое «дух», «духовность», «духовная жизнь»? Митрополит Иоанн (Снычев) писал: «Дух, согласно учению Церкви, есть та сила, которую вдохнул Бог в человека, завершая сотворение его. Он есть искра богоподобия, горящая в душе человеческой, возвышая её безмерно над всякой земной тварью… Совесть – вот первое осязаемое проявление духовной жизни… Второе проявление духовной жизни есть свойственная нашему духу жажда Бога».
Иван Ильин писал: «Дух есть та творческая сила души, которая ищет подлинного знания, добродетели и красоты и, созерцая Божество, как реальное средоточие всякого совершенства, познает мир для того, чтобы осуществить в нем Его закон, как свой закон».
«Духовным называется такое состояние души, которое является восприятием, переживанием и осуществлением верховной объективной ценности. Такое состояние превращает душу в живой орган Божьей жизни, открывает человеку его назначение и в то же время указывает ему подобающие и необходимые формы бытия».
Итак, духовность – это в первую очередь жажда Бога, как высшей жизненной ценности. Духовность – наличие в душе вертикального измерения, устремленность души к высшему плану бытия. «Пневматик» не может жить без Бога, если он не обретает Бога, отчаяние превращает его в чудовище. «Пневматики» – не обязательно великие аскеты, но это люди, которые признают приоритет духа над брюхом. Им в разной степени удается воплотить свой духовный идеал, но они его имеют, и они не в состоянии от него отречься, потому что жить только материальными, интеллектуальными и эстетическими потребностями они не способны. «Пневматики» не чужды потребностям этого мира, но по-настоящему важно и актуально для них только то, что лежит вне этого мира.
Так вот. Вопрос о смысле имеет значение только для «пневматиков». И если мы начали разговор о смысле России, то должны понимать, что для большинства наших сограждан такая постановка вопроса не только не будет интересна, она вообще не будет понятна, и любая попытка заинтересовать широкие массы «каким-то там смыслом» была бы проявлением крайней наивности, так что мы сразу отсекаем от этой дискуссии основную часть общества.
Сейчас очень много говорят о будущем России все, кому не лень, но речь почти всегда идет об экономике, об уровне материального потребления, о том, насколько «справедливо» будет распределяться материальные блага. Большинство людей и так-то склонно воспринимать жизнь, как процесс материального потребления, а сейчас эта склонность уже оформлена в теорию. Называется «панэкономизм».
Михаил Веллер писал: «Сегодня в мире господствует панэкономизм, утверждающий, что всё вытекает из уровней производства и потребления. И все процессы в мире – следствие стремления потреблять больше и борьбы за это … Как наука, панэкономизм атеистичен. Как вульгарное течение панэкономизм формалистичен и механистичен: рассматривает людей, как роботов без души и без нервной системы».
Владимир Воложанин и Владимир Петров о том же: «Есть такое понятие «экономическая модель человека». В соответствии с данным понятием человек – это разумное социальное животное, жизненной целью которого является максимализация индивидуальных потребностей, носящих полностью торгуемый характер. В основе существующего миропорядка лежит как раз именно эта модель».
Так вот панэкономизм придумали «физики». Повторюсь: «физики» были, есть и будут. Это нормально. Но в наше время «физики» интеллектуально доминируют и рекрутируют элиты из своей среды. А вот уже совсем не нормально. Низшие потребности не могут и не должны управлять высшими потребностями, доходя до полного отрицания последних. В низших потребностях нет ни чего плохого, в той или иной степени они присущи всем людям, они лишь должны находиться в подчиненном положении. Если носители исключительно низших потребностей начинают доминировать – тушите свет.
При этом панэкономизм глубоко и сущностно демократичен. Он заведомо рассчитан на то, чтобы понравиться большинству, которое всегда состоит из «физиков». Панэкономизм не переспоришь, как невозможно переспорить желудок без ушей. И вот об это обстоятельство сейчас разбиваются попытки создания какой бы то ни было иделогии. Наши идеологи, отнюдь не страдающие панэкономизмом, пытаются противопоставить ему нечто столь же демократичное. Но это невозможно. Любая идеология по определению недемократична. Идеология – это об идеалах, а большинству ни какие идеалы не нужны вообще.
Вот, скажем, выражает человек некую идею, а ему говорят: «Это не может быть привлекательно для большинства людей, люди за этим не пойдут». Так демократизм нашего мышления губит на корню любую идеологию. Нет и не может быть идеи, привлекательной для большинства. Идеи – удел меньшинства. В нормальном обществе это меньшинство является правящим и ведет за собой большинство. Идеалы и смыслы определяют «пневматики». Любая идеологическая полемика возможна только внутри этой очень маленькой части общества. Так что не ждите «популярных идей». Их попросту не бывает.
В нашем демократическом обществе само слово «смысл» уже до того выветрилось, что придется объяснять его значение, хотя это вроде бы и не специальный термин, а слово из активного словарного запаса. Вопрос о смысле жизни потому и является тупиковым, что мы уже очень смутно осознаем, что такое смысл. Так что же это такое?
Недавно я гулял с четырехлетним внуком, мы подошли к реке. Он внимательно посмотрел на относительно прозрачную воду и спросил: «Зачем камни в реке лежат?» И я растерялся. Ведь я привык отвечать точно на поставленный вопрос. Вот если бы он спросил: «Почему камни в реке лежат?», так я бы ему целую лекцию прочитал. Но он спросил «зачем?», и я не знал что ответить. Я уже успел подумать, что он неточно сформулировал вопрос, ведь ребенок может вместо одного слова употребить другое, но тут он сам ответил, причем именно на вопрос «зачем?»: «Камни защищают реку». Я просто обалдел. Он спросил меня о смысле. И пусть в его ответе было больше поэзии, чем реальности, но и ответ был о смысле. Незамутненное детское сознание воспринимает мир, как нечто имеющее смысл в каждой своей детали, здесь даже камни лежат в реке не просто так. А ведь – воистину. О чем же спрашивают взрослые? Почему? По какой причине? Как долго? С какими последствиями? Всё это мелкие вопросы, ответы на которые ни чего не объясняют. А вот «зачем?» спрашивают очень редко.
Гейдар Джемаль писал: «Противостояние простому самотождеству бытия есть революционный прорыв в смысл». Прекрасные и горькие слова. Демократичность нашего сознания довела до того, что мнение «физиков» стало мерилом всех вещей, и чтобы пробиться к смыслу жизни нужен «революционный прорыв», безжалостно сметающий привычные обывательские полуправды.
Что такое человек, живущий со смыслом? Джемаль пишет: «Например, у тебя деньги в кармане, но ты не идешь в казино, не покупаешь «мерседес», а делаешь какое-нибудь дело, которое не приносит тебе непосредственно ни какой выгоды».
Впрочем, так может вести себя и человек, в жизни которого просто есть некакая сверхзадача. Цели, задачи и даже сверхзадачи не надо путать со смыслом. Цель человека может быть, например, в том, чтобы добиться всемирной славы. Побить мировой рекорд. Стать нобелевским лауреатом. Создать великую империю. Построить дом, посадить дерево, воспитать сына. Всё это цели и задачи, которые могут быть совершенно бессмысленными. Потому что по их достижении человека всё равно поджидает страшный, порою просто убийственный вопрос: «Зачем?» Зачем нужны были слава и власть? Зачем рекорды и открытия? Зачем дома, деревья и сыновья? Сколько раз люди, добившиеся целей, которые перед собой ставили, чувствовали полную опустошенность и спрашивали себя: «Зачем мне это было надо? Ну, вот я чемпион. Лауреат. Император. А теперь, кажется, что всё это не стоило потраченных усилий. Всё какое-то бессмысленное».
Смысл – это высшая окончательная цель, по достижении которой уже не спросишь «зачем?» Подлинный смысл человеческой жизни или жизни страны может придать только религия. Это бесспорно следует из простейшего и совершенно неопровержимого философского утверждения: цель процесса всегда лежит вне процесса. Если человек строит дом, его цель не может быть достигнута в процессе строительства, она будет достигнута, когда процесс завершится. Это тем более справедливо по отношению к высшей и окончательной цели – к смыслу жизни. Жизнь это процесс, смысл её может быть обретен только по окончании процесса. Смыслом жизни не может быть сама жизнь. Жизнь – не самоцель. Смысл земной жизни лежит за её пределами, он осуществляется лишь после её завершение. Если человек не верит в «жизнь после смерти», его жизнь по определению лишена смысла. Он будет иметь лишь тактические, по существу – ничтожные цели и задачи, достижение которых в конечном итоге ни на что не направлено.
Но не все религии предлагают понимание смысла человеческой жизни. Гейдар Джемаль тонко заметил: «Пантеизм бессмысленен. Там есть мудрость, есть понимание всего и вся. Смысла нет! Смысл – это то, ради чего».
Так же и все религии, основанные на вере в переселение душ, абсолютно бессмысленны. Если сама по себе личность исчезает, то есть исчезает тот, кто осознает самого себя в качестве самого себя, то для человека лишено всякого смысла стремление разорвать цепочку перерождений и уйти в небытие. Что мне за дело до того, что будет со мной, если это уже буду не я? Как сказал в «Матрице» агент Смит: «Единственный смысл жизни в том, что она когда-нибудь закончится». Вполне буддийская бессмыслица.
Есть только две смысловых религии – христианство и ислам. И сейчас мне доставляет большое удовольствие цитировать исламского мыслителя Гейдара Джемаля: «Религия по самому существу своему претендует на руководство во всех делах и отношениях. Она ищет и находит высшее слово и последнее слово, она указывает человеку то, через что сама жизнь его становится воистину жизнью и каждое действие получает свой существенный смысл… Подобно тому, как нет ни чего выше, значительнее и совершеннее Божества, подобно этому для человека нет ни чего выше, значительнее и благотворнее настоящей религии».
В этой цитате ни одно слово не вызывает у меня возражений, но будьте осторожны, читая мусульман, даже самых мудрых. «Исламский смысл» во многом отличается от христианского, это проявляется, например, в таких словах Гейдара:
«Человек не существует ради самого себя. Он является не самоценностью, не самоцелью, он является инструментом Провидения. Инструментом надо быть более или менее хорошим. Тупая стамеска, тупой топор – это плохо. В чем основная дефективность этого инструмента? В том, что человек не знает и не хочет знать, что он – инструмент».
Пафос этого высказывания до определенной степени приемлем, но христиане знают, что человек для Бога не только и не столько инструмент, сколько любимое дитя, которое Отец Небесный призывает к Себе. Отношения между человеком и Богом в исламе и христианстве понимаются по-разному. Ислам предлагает покорность человека Богу. Христианство предлагает любовь между человеком и Богом. Ислам говорит человеку во что он должен верить, и что он должен делать. Христианство говорит человеку, каким он должен стать. Это порождает существенную разницу смыслов ислама и христианства, но до определенной степени они совпадают. Поэтому нельзя не согласиться со следующими словами Гейдара, из которых даже не ясно, какую именно религию он имеет ввиду, и в данном случае это действительно не важно:
«Самая серьезная проблема России не в том, что ухудшается качество питания и уровня жизни, а в том, что народ России теряет великую веру и великую идею. Без них существование российского государства невозможно, оно обречено на медленное умирание, на распад. Поэтому спасение России в возвращении к такой форме существования, когда страна живет не ради самой себя, а ради исторической сверхзадачи, ради исполнения своей исторической миссии».
Это безупречная постановка вопроса, хотя ещё и не ответ на вопрос, но доберемся и до ответа, а пока подведем промежуточные итоги.
Как в жизни конкретного человека, так и в жизни страны должен быть смысл. Не смотря на то, что большинству людей ни какой смысл не нужен, судьба страны должна определяться идейным, духовным меньшинством, которое и должно вести за собой народ. Подлинный смысл возможно обрести только в религии, причем – в подлинной религии, вне веры истинной нет ни какого смысла ни в существовании человека, ни в существовании человечества. Александр Дугин верно заметил: «Если общество окончательно утратит смысл, оно исчезнет из истории навсегда».
Сейчас максимально неблагоприятный период для поисков русского смысла. Об этом и Дугин пишет: «В нашем российском обществе на старте нового тысячелетия болезненно ощущается дефицит идей … Большинство людей … руководствуются в своей жизни, в политическом выборе набором сиюминутных факторов, случайных интересов, преходящих эмоций. Мы стремительно утрачиваем общее представление о смысле жизни, о логике истории, о задачах человека, о судьбе мира … На место тоталитарного одномыслия пришло полное безразличие к мысли вообще».
Это так, но этим не надо смущаться. Мы должны стремиться к смыслу совершенно независимо от того, какое количество соотечественников готово разделить это наше стремление. И не надо оригинальничать, изобретая новые «идеи». Всё истинное – вечно. Мы ни когда не поймем о жизни больше, чем понимали наши православные предки.
Михаил Делягин, например, считает: «Попытка вернуться на 600 лет назад и восстановить национальное единство на основе религии, пусть даже православной, кончится плохо». Это всё равно что сказать: «Правда больше не работает, что бы нам соврать людям?» Религия может играть большее или меньшее значение в жизни общества, но Бог от этого не исчезает, и если сей непреложный факт уже не может объединить людей, то ни какое мнимое единство ни от чего нас не спасет.
Смысловой стержень
Тот факт, что Бог существует, является для нас смысловым стержнем. Ведь русский смысл выстраивается вокруг этого стержня. А в существовании Бога не может усомниться ни один свободно мыслящий непредвзятый человек. Атеизм принципиально антинаучен. Об этом можно написать монографию, но достаточно вспомнить второй закон термодинамики, который гласит, что самопроизвольно в замкнутой системе энтропия (мера беспорядка) не может убывать, обычно она возрастает. Частицы движутся обычно под влиянием случайных импульсов, не имеющих общей цели. Если импульсы случайны, всё будет двигаться от порядка к беспорядку, потому что способов достижения беспорядка всегда больше. Чтобы снизить энтропию, нужно подвергнуть систему внешнему воздействию и совершить над ней работу.
Проще говоря, порядок не может возникнуть сам по себе, как следствие случайных комбинаций. А между тем мы знаем, что вселенная от галактики до атома являет собой образец изумительной упорядоченности. Утверждение, что так получилось случайно, абсолютно антинаучно. То, что материя подверглась внешнему, целенаправленному, разумному воздействию, это не предположение, это факт, который можно считать установленным, если человек не намерен отрицать очевидное. Сама по себе вселенная не могла бы ни возникнуть, ни существовать. Сам по себе возникает только хаос, порядок всегда кто-то создает, и если не поддерживать порядок, опять водворяется хаос.
Одного только второго закона термодинамики достаточно, чтобы считать существование Бога доказанным, а кому интересно, тот найдёт ещё множество столь же неопровержимых доказательств.
Второе утверждение, относящееся к смысловому стержню нашей концепции – существование Промысла Божьего. Бог не только существует, но и заботится о своем творении, ведет его к намеченной цели, участвует в человеческой истории и в судьбе каждого человека. Не для всех это очевидно. В XVIII веке начал развиваться деизм – учение, признающее Бога, как Творца, но не признающее Его, как Промыслителя.
Деизм поражает своей бессмысленностью. Если Бога нет в жизни людей, то можно считать, что для людей Его нет вообще, то есть по своим выводам деизм равен атеизму. Если отрицать существование Промысла, тогда из факта существования Бога ровным счетом ни чего для нас не следует. Деизм приходится отвергнуть уже хотя бы потому, что он не отвечает ни на какие вопросы. Кроме того, он логически абсурден. Любой человек, даже если он обладает самым скудным разумом, что-то делая, обычно знает, зачем он это делает, его действие всегда направлено на какую-то хотя бы самую примитивную цель. Возможно ли предположить, что Сверхразум Творца вселенной не обладает тем свойством, которым наделен самый убогий человеческий разум – способностью к целеполаганию? Возможно ли такое, что бы Бог создал мир и тут же о нем забыл, то есть творение не имело ни цели, ни смысла? Творение не могло не преследовать некой цели, а, значит, Бог не мог оставить людей на произвол судьбы.