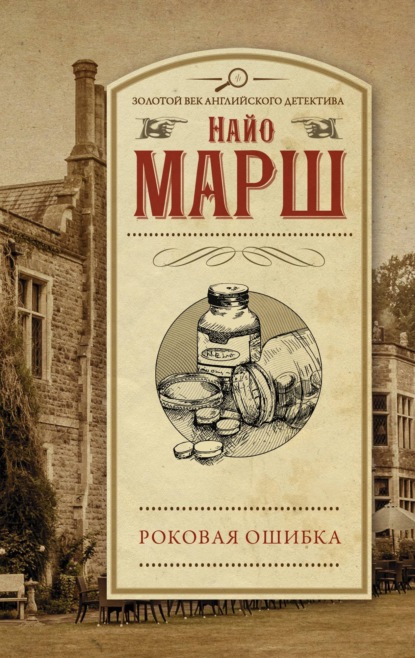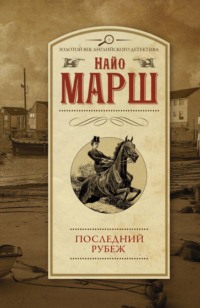Полная версия
Смерть в театре «Дельфин»
Перегрин выбрался наружу, но не юркнул в дом, а вошел торжественно, как на сцене. Он степенно поднялся по ступенькам, оставляя грязные следы и держа меховой коврик, как мантию. Лакей отступил в сторону.
– Благодарю, – церемонно произнес Перегрин. – Я упал, как вы можете понять, в грязную воду.
– Именно так, сэр.
– По шею.
– Крайне неудачно, сэр.
Появился хозяин.
– Моусон, прежде всего, разумеется, ванна, – сказал он, – и что-нибудь, чтобы унять дрожь.
– Безусловно, сэр.
– А потом зайдите ко мне.
– Слушаюсь, сэр.
Слуга пошел наверх. Хозяин дома теперь вел себя совершенно нормально, так что Перегрин заподозрил, что был сбит с толку отвратительным происшествием. Разговор пошел о том, как полезны английская соль в горячей ванне и кофе с ромом. Перегрин слушал, словно загипнотизированный.
– Простите, что я так раскомандовался. Вы наверняка ужасно чувствуете себя, а я действительно виню себя.
– Но почему?
– Слушаю, Моусон.
– Джентльмен может подняться наверх, сэр.
– Верно. Верно. Хорошо.
Перегрин поднялся по лестнице, и его проводили в наполненную ароматным паром ванную.
– Я подумал, сэр, что хвойный аромат будет кстати, – сказал Моусон. – Надеюсь, температура вам подойдет. Позвольте, я заберу коврик и пальто. И ботинки. – Его голос непроизвольно дрогнул. – Вы найдете банное полотенце на поручне; горячий ром с лимоном – под рукой. Когда будете готовы, сэр, позвоните.
– Готов к чему?
– Одеваться, сэр.
Решив не спрашивать «во что?», Перегрин просто сказал:
– Спасибо.
– Вам спасибо, – ответил Моусон и удалился.
Ванна оказалась выше всяких похвал. Аромат хвои. Отличная щетка с длинной ручкой. Хвойное мыло. И горячий ром с лимоном. Дрожь унялась, Перегрин тщательно намылился с ног до головы, растер себя так, что кожа порозовела, погрузился в воду – розовый и пьяный – и попытался трезво оценить ситуацию. И не смог. Слишком многое случилось. Придя к выводу, что чересчур расслабился, он, хоть и без восторга, принял холодный душ. Это помогло. Вытершись насухо и завернувшись в махровый халат, Перегрин позвонил. Чувствовал он себя прекрасно.
Вошел Моусон, и Перегрин сказал, что хотел бы позвонить по телефону насчет какой-нибудь одежды, хотя так и не решил, куда звонить. Джереми Джонса, с которым они делили квартиру, точно нет дома; у помощницы по хозяйству сегодня свободный день. Театр «Единорог»? Там, конечно, кто-нибудь есть, но вот кто?
Моусон проводил его в спальню, где стоял телефон. На кровати была разложена одежда.
– Полагаю, размер ваш, сэр. Хозяин надеется, что вы не откажетесь принять одежду во временное пользование, – сказал Моусон.
– Послушайте…
– Вы сделаете одолжение, если согласитесь ее надеть. Что-нибудь еще, сэр?
– Честно говоря…
– Мистер Кондусис выражает вам свое почтение, сэр, и надеется, что вы присоединитесь к нему в библиотеке.
У Перегрина отвисла челюсть.
– Благодарю вас, сэр, – четко произнес Моусон и вышел.
Кондусис?Кондусис! Все равно что услышать «мистер Онассис». Неужели это мистер Василий Кондусис? Чем больше думал Перегрин, тем невероятнее это казалось. Ради всего святого, что могло понадобиться мистеру Василию Кондусису в развалинах театра в Саут-Банке в половине одиннадцатого утра, когда ему положено ленно плавать на своей яхте в Эгейском море? И что сам Перегрин делает у мистера Кондусиса – в доме (вдруг осознал Перегрин) такой высоты по шкале тихого величия, какого Перегрин и не надеялся увидеть – если не на страницах книг, каких, впрочем, и не читал.
Одежда на кровати была под стать тому, что Перегрин, человек театра, про себя называл декорациями. Он рассеянно поднял веселенький галстук, лежавший рядом с плотной шелковой рубашкой. На этикетке значилось «Шарве». Где он читал про Шарве?
Перегрин присел на кровать и набрал несколько номеров – безуспешно. В театре никто не отвечал. В конце концов он оделся и понял, что, несмотря на консервативность стиля, выглядит весьма презентабельно. Даже туфли были впору.
Подготовив небольшую речь, Перегрин сошел вниз, где обнаружил поджидающего его Моусона.
– Вы сказали «мистер Кондусис»?
– Да, сэр, мистер Василий Кондусис. Прошу сюда, сэр.
Мистер Кондусис стоял в библиотеке перед камином, и Перегрин поразился, что не сумел узнать лицо, опубликованное в прессе повсюду – и как поговаривали, вопреки пожеланиям владельца. На фоне оливковой кожи глаза мистера Кондусиса оказались неожиданно бледными. А вот рот был одновременно беспощадный и ранимый. Тяжелый подбородок. Курчавые черные волосы начинали седеть на висках.
– Входите, – пригласил хозяин. – Да, входите.
Тенор, с определенным акцентом и легким пришепетыванием.
– Вы в порядке? – спросил мистер Кондусис. – Пришли в себя?
– Да, вполне. Не могу выразить свою благодарность, сэр. А что касается… насчет вещей, которые вы мне одолжили… я в самом деле…
– Размер подошел?
– Точно впору.
– Это все, что нужно.
– Не считая того, что они все-таки ваши… – Перегрин рассмеялся, чтобы не показаться напыщенным.
– Повторяю, я несу ответственность. Вы могли… – Голос мистера Кондусиса совсем затих, но губы беззвучно закончили предложение: – Утонуть.
– В самом деле, сэр! – Перегрин начал заготовленную речь. – Вы спасли мне жизнь. Я так и висел бы там, пока руки не отказали бы, а тогда… тогда… тогда я утонул бы, как вы и сказали.
Еле слышно мистер Кондусис произнес:
– Я не простил бы себе.
– С какой же стати! Из-за дыры на сцене «Дельфина»?
– Это моя собственность.
– А! – не удержался Перегрин. – Вот и замечательно!
– Что вы имеете в виду?
– То есть замечательно владеть театром. Восхитительный маленький театр.
Мистер Кондусис бесстрастно посмотрел на гостя.
– В самом деле? Восхитительный? Возможно, вы изучали театры?
– Не совсем. Ну, то есть я не эксперт. Но я зарабатываю на жизнь в театре.
– Ясно. Не откажетесь выпить со мной? – спросил мистер Кондусис. – Уверен, не откажетесь. – Он двинулся к подносу на столике.
– Ваш слуга уже подал мне очень крепкий и замечательно бодрящий горячий ром с лимоном.
– Наверняка вы можете позволить себе еще. Вот ингредиенты.
– Только совсем немного, пожалуйста, – ответил Перегрин. Он ощущал легкое гудение в жилах и постукивание в ушах, однако по-прежнему чувствовал себя прекрасно.
Мистер Кондусис поднес гостю ароматный парящий бокал, а себе налил что-то из кувшина. Что это – простая вода?
– Присядем, – предложил хозяин и бросил на Перегрина торопливый взгляд. – Вы, наверное, удивляетесь, что я оказался в театре. Речь идет о сносе здания и постройке на его месте нового. Эту идею я давно обдумываю и хотел освежить память. В агентстве моему человеку сказали, что в здании находитесь вы. – Мистер Кондусис сунул пальцы в карман жилетки, и Перегрин увидел свою собственную карточку. Она выглядела крайне убогой.
– Вы… вы собираетесь снести театр? – спросил Перегрин, поразившись фальшивой бодрости собственного голоса. Он сделал глоток рома – очень крепкого.
– И вас это не устраивает, – заметил мистер Кондусис – не вопросительным, а утвердительным тоном. – Есть у вас какие-то соображения, помимо общего интереса к подобным зданиям?
Если бы Перегрин был трезв и одет в собственную одежду, он, возможно, пробормотал бы что-то невнятное и поспешил покинуть дом мистера Кондусиса, прервав всяческие контакты с владельцем. Однако сейчас Перегрин был выдернут из привычной среды и привычной одежды. Он возбужденно заговорил. Говорил о «Дельфине», о том, как он выглядел после того, как мистер Адольф Руби славно его украсил. Описал, каким он представлял театр до падения в колодец: чистый, сияющий светом люстр, полный, теплый, жужжащий и ожидающий. Заявил, что этот театр – последний в своем роде, с такой большой сценой, что там можно осуществлять крупные постановки.
Перегрин уже забыл и о мистере Кондусисе, и о том, что не стоит пить много рома. Он говорил увлеченно и самозабвенно.
– Только представьте себе! Сезон шекспировских комедий! Представьте «Бесплодные усилия» на этой сцене. Может, получится достать баржу – да, «Серый дельфин», – и люди будут добираться на спектакль по воде. А перед началом представления мы поднимем флаг с ужасно умным дельфином. И все будем делать быстро и легко, элегантно и… О! – воскликнул Перегрин. – И чтобы дух захватывало, да так, как не бывает ни с одним другим драматургом.
Перегрин расхаживал по библиотеке мистера Кондусиса. Смотрел, не видя, на ручной выделки корешки коллекционных изданий, на картину, которую с изумлением вспоминал впоследствии. Размахивал руками. Возбужденно кричал.
– Ничего подобного не было в Лондоне с тех пор, как Бербедж перенес первый театр из Шордича в Саутворк. – Перегрин заметил свой бокал и залпом осушил его. – И это не пустые фантазии, учтите. Не завираки. Господи, нет! Но и не пародия. Просто хороший театр, делающий то, что ему положено. Причем делающий не по каким-то чертовым методам, системам и тенденциям – или что там еще. Учтите.
– Вы снова про Шекспира? – раздался голос мистера Кондусиса. – Я правильно понимаю?
– Ну разумеется, про него! – Перегрин вдруг вспомнил о присутствии мистера Кондусиса. – О боже! – сказал он.
– Что-то случилось?
– Боюсь, я немного перебрал, сэр. Не то чтобы перебрал, но чересчур раскрепостился. Мне ужасно жаль. Наверное, пора уходить, а все, что вы мне так любезно одолжили, я обязательно верну. Верну как можно быстрее, само собой. Так что прошу…
– Чем вы занимаетесь в театре?
– Я ставлю спектакли. И написал две пьесы.
– Ничего не знаю о театре, – пожал плечами мистер Кондусис. – Вы достаточно успешны?
– Ну, пожалуй, сэр. Думаю, да. За последние три месяца у меня столько работы, сколько я в силах сделать, и, хочется верить, мой авторитет растет. Прощайте, сэр.
Перегрин протянул руку. Мистер Кондусис, на лице которого, похоже, мелькнул ужас, отшатнулся.
– Прежде чем вы уйдете… Хотел вам показать кое-что, вдруг заинтересует. Уделите мне минутку?
– Разумеется.
– Это здесь, – тихо произнес мистер Кондусис и подошел к великолепному изящному бюро.
Перегрин последовал за хозяином и увидел, как тот выдвигает блестящий, изящно инкрустированный ящичек.
– Какое милое, – заметил Перегрин.
– Милое? – опять переспросил мистер Кондусис. – Вы про бюро? Да, его для меня специально разыскали. Я сам в этом совсем не разбираюсь. Я вовсе не его хотел показать. Вот, посмотрите. Пойдемте к столу.
Он вынул из ящика небольшую деревянную коробочку, очень старую, в пятнах и, по мнению Перегрина, ничем не примечательную. Коробочку мистер Кондусис положил на стол у окна и указал на кресло рядом. Перегрину показалось, что он исполняет роль в чужом сне. «Я вовсе не пьян, – подумал он. – Просто в некоем достойном сожаления и зависти состоянии, когда все кажется к лучшему».
Он сел у стола, и мистер Кондусис, стоявший в стороне, нажал на коробочку белым плоским пальцем. Открылось двойное дно. Необычного в этом ничего не было, и Перегрин не мог решить, ждут ли от него удивленного восклицания. Он увидел, что в открывшемся отделении лежит сверток, размером – да и формой – напоминающий половину селедки, обернутый в выцветший желто-бурый шелк и перевязанный куском блеклой ленты. Мистер Кондусис уже держал в руке нож для бумаг. «Все, что его окружает, – подумал Перегрин, – сплошь музейные экспонаты». Ножом, как сервировочной лопаткой, хозяин поднял шелковый сверток и подал его, словно блюдо, гостю.
Сверток соскользнул с лезвия, а с ним и выцветшая карточка, на которой он лежал. Перегрин чуть мутным взглядом разглядел, что это – меню; на нем стояла дата шестилетней давности. Поперек мелькнувшего перед глазами заголовка «Паровая яхта “Каллиопа”. У Вильфранша. Праздничный ужин» красовалась над десятком прочих витиеватая неразборчивая подпись.
– Извините, – сказал мистер Кондусис, быстро накрывая ладонью карточку и убирая ее прочь. – Это тут совсем ни при чем. Интересен сам сверток. Откроете?
Перегрин осторожно потянул за концы ленты и развернул шелк.
На свет явилась перчатка. Детская, цвета старого пергамента, в пятнах, похоже, от воды и сморщенная, как лицо древнего старика. Перчатку покрывала изящная вышивка – крохотные золотые и алые розы. Золотая бахрома на конических манжетах потемнела и растрепалась. Ничего столь же душераздирающего Перегрин в жизни не видел.
Под перчаткой лежали две сложенные бумаги, давно выцветшие.
– Прочитаете? – пригласил мистер Кондусис и отошел к камину.
Перегрин необычайно деликатно прикоснулся к перчатке. «Лайка, – подумал он. – Лайковая перчатка. От времени, наверное, стала хрупкой?» Нет. Кожа под кончиками пальцев была необъяснимо мягкая, словно только что выделанная. Перегрин вытащил из-под перчатки бумаги – порванные на сгибах, грязные и блеклые. Очень аккуратно развернув ту, что побольше – она легла перед ним порванная, – и напрягшись, Перегрин прочел:
«Эту маленькую перчатку и прилагаемое письмо моя прапрабабушка получила от лучшей подруги, миссис – или мисс – Дж. Харт. Моя милая бабушка уверяла, что это принадлежало Барду. NB. Смотри отметку внутри манжеты.
М. Е. 23 апреля 1830 года».«Прилагаемое письмо» было всего лишь клочком бумаги. Надпись сильно поблекла; Перегрин даже сначала принял корявые извилистые буквы за иероглифы и решил, что ничего не удастся прочесть. Потом начал узнавать буквы, которые постепенно складывались в слова.
Воцарилась тишина. Огонь в камине утих. Кто-то прошел по комнате над библиотекой. Перегрин слышал биение собственного сердца. Он прочитал:
«Сделаны моим отцом для моего сына на XI день рождения и ношены только раз».
Перегрин застыл, глядя на маленькую перчатку и документы. Мистер Кондусис оставил нож для бумаг на столе. Перегрин вставил кончик ножа из слоновой кости в раструб перчатки, очень медленно поднял и повернул. Внутри стояла пометка, теми же корявыми буквами. «Х. Ш.».
– Но откуда… – Перегрин не узнал собственный голос. – Откуда она у вас? Чья она?
– Моя, – ответил мистер Кондусис издалека. – Разумеется.
– Но… где вы ее нашли?
Долгая пауза.
– В море.
– В море?
– Во время круиза шесть лет назад. Купил.
Перегрин посмотрел на хозяина. Как бледен мистер Кондусис и как странно ведет себя!
– Ящик – своего рода дорожный письменный прибор – передавался по наследству. Бывший владелец узнал о существовании двойного дна только… – Мистер Кондусис замолк.
– Только? – повторил Перегрин.
– Только незадолго до смерти.
– Специалистам показывали? – спросил Перегрин.
– Нет. Конечно, стоило проконсультироваться в музее или у «Сотбис».
Мистер Кондусис говорил так спокойно и безмятежно, что Перегрин заподозрил: хозяин каким-то непостижимым образом не понимает значимости вещи. Как бы уточнить… но тут мистер Кондусис продолжил:
– Я не проводил полной проверки, однако понимаю, что возраст мальчика в момент смерти совпадает со свидетельствами и что его дед был перчаточником.
– Да.
– И что инициалы внутри перчатки совпадают с инициалами мальчика.
– Да. Хемнет Шекспир.
– Именно, – сказал мистер Кондусис.
Глава 2. Мистер Гринслейд
I
– Знаю, – сказал Перегрин. – И не нужно повторять, Джер. Я знаю, что вокруг имени Барда всегда существовала нездоровая шумиха, а к четырехсотлетнему юбилею она выросла еще. Я знаю о кутерьме вокруг старых портретов с выпуклым лбом, о поддельных автографах, «украденных и обретенных списках», фальшивых «открытиях» – обо всем. Я знаю, что, вероятнее всего, эта перчатка – всего лишь подделка. Я только прошу тебя понять, что, увидев все это перед собой, я просто с катушек съехал.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Лихтер – небольшое плоскодонное судно для погрузки и разгрузки больших судов.
2
У. Шекспир. «Гамлет». Перевод Б. Пастернака.
3
У. Шекспир. «Гамлет». Перевод Б. Пастернака.