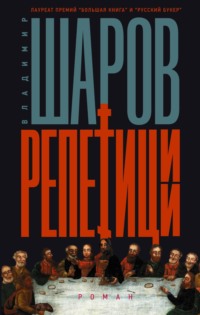Полная версия
След в след. Мне ли не пожалеть. До и во время
В двадцать первом году вся семья опять соединяется в Москве. Братья выросли и стали совсем чужие друг другу. Всё, что у них общее, – совсем одинаково, остальное только разъединяет их. Тогда же Ирине удается окончательно утвердить то, что началось семнадцать лет назад. Пользуясь неразберихой послереволюционных лет и связями Иоганна, она выправляет детям три разные метрики. После возвращения Крейцвальдов в Москву с ними поселяется двадцатилетний оболтус (так он сам себя характеризовал) Александр Крауг, сын любимого университетского учителя Иоганна, профессора Крауга. Александр Крауг был последним любовником Ирины и, кажется, единственным человеком, который знал и дружил со всеми тремя братьями. Он сообщил мне множество ценнейших фактов, но значительная часть того, что он говорил, оказалась ложью.
От Александра Крауга я знаю, что он жил у Крейцвальдов до 1 марта двадцать четвертого года – дня смерти Ирины. Умерла она от инфлюэнцы, и осенью того же года также от инфлюэнцы умер и Иоганн. Оба они похоронены на Немецком кладбище в самом начале кленовой аллеи. Крауг утверждал, что Иоганн знал о его связи с Ириной и нисколько не был этим недоволен. После возвращения в Москву он стал сильно сдавать и побаивался энергии Ирины. Хотя разница между супругами была меньше восьми лет, Ирина скорее походила на дочку Иоганна. Выглядела она прекрасно и умерла совершенно неожиданно для всех. Сыновей своих Иоганн любил, относился к ним ровно и никогда не отказывал в помощи. По словам Крауга, предусмотрительность Ирины, оформившей детям разные документы, оказалась далеко не лишней, и только благодаря ей после смерти Иоганна им удалось целиком сохранить свою старую квартиру на Солянке.
Через два года после смерти родителей Федор женился на какой-то девке, которая много лет проработала в ЧК, оттуда ее выгнали, год она скиталась неизвестно где, зарабатывала, подцепляя на кладбищах недавних вдовцов, потом познакомилась с одним из Крейцвальдов, кажется со старшим, Федором, но спала со всеми тремя братьями. Как сказал Крауг, выбирала. Потом не без помощи ее друзей из ЧК-ОГПУ два младших брата исчезли, а она вышла замуж за Федора и стала хозяйкой квартиры. Всё это ложь, и мне особенно жалко, что так же относились к жене Федора – Наталье Коновицыной – и прочие родственники Крейцвальдов. Мне удалось разыскать братьев Натальи и ее 93-летнюю мать, которая сейчас живет в Ессентуках, они добросовестно рассказали мне всё, о чем я их спрашивал, и теперь мой долг – восстановить доброе имя Натальи.
Со стороны отца Наташа, или по-полному Наталья Дмитриевна Коновицына, принадлежала к очень старому роду. Ее предки есть уже в Бархатной книге царевны Софьи, куда, как известно, были вписаны только самые родовитые дворянские фамилии. Дед ее вышел в отставку в чине генерала от инфантерии, бабка была фрейлиной императорского двора при Александре III. Их единственный сын Дмитрий тоже пошел по военной части, но уже в тридцать лет, едва дослужившись до майора, был вынужден из-за дуэли покинуть полк. История была темной. В Военно-историческом архиве я нашел рапорт командира полка об этой дуэли, но и сейчас, когда я знаю обстоятельства дела, мне трудно сказать, кто из них двоих был больше не прав: Дмитрий Коновицын или убитый им, тоже майор, Николай Дроздов. Через год после этой дуэли Дмитрий Коновицын женился на дочери разорившегося текстильного фабриканта Елене Валовой – одной из первых тогдашних красавиц, будущей матери Наташи. Он был очень ревнив, и мать еще лет за пять до революции ушла от него, забрав с собой Наталью и ее младшего брата Сергея; их старший сын, как и дед – Андрей, остался с отцом.
Крестный Сергея был владелец большого конного завода под Екатеринославом, он очень любил мать Наташи и после развода много ей помогал. Каждое лето они месяц или два проводили в его имении рядом с заводом. Там и Наташа, и ее брат страстно полюбили лошадей, и потом, много позже, в тридцатых годах, Сергей стал одним из самых знаменитых московских жокеев. Те, кто часто посещал бега в то время, наверняка помнят его под прозвищем Мальчик-с-пальчик.
После революции крестный лишился своего конного завода и помогать матери деньгами уже не мог. По рекомендации Буденного, ценившего его знание лошадей, крестного взяли заведовать конюшней московского ипподрома, и он посоветовал матери Наташи устроиться к ним в контору машинисткой. Она послушалась, но пальцы у нее оказались такие нежные, что при печатании из-под ногтей сочилась кровь, в конце концов ей пришлось отказаться от места и уйти. Жили они тогда очень тяжело, почти впроголодь. Когда нэп утвердился, всё наладилось, мать быстро выучилась на маникюршу и массажистку и зарабатывала в ту пору очень хорошо, у нее был свой салон, своя клиентура, пара гнедых лошадей, которую подобрал её крестный, удобная квартира на Арбате в доме со швейцаром.
Потом она вновь вышла замуж за крупного инженера-артиллериста, перестала работать, сдала в аренду, а через два года и вовсе продала салон. Дом они поставили на широкую ногу, ходили в рестораны, почти каждый день приглашали гостей. На одной из их вечеринок мать познакомилась и влюбилась в приятеля мужа, тоже инженера, и ушла к нему. Мать любила рассказывать, что жена этого приятеля никак не могла простить ей, что она увела у нее мужа, безумно ревновала и хотела облить серной кислотой. Они тогда сидели в квартире, как в осаде. Горничная знала, что она должна открывать дверь только на цепочку и обязательно спрашивать – кто и зачем. До матери эта женщина добраться так и не сумела, а своего бывшего мужа искалечила. Она подстерегла его, когда он шел на работу, достала из сумочки пистолет и выстрелила. Пуля прошла всего в двух сантиметрах от сердца. Умер он или нет, мать точно не знала: в тот же день она уехала на юг, в Крым, и больше никогда с ним не виделась. Кажется, он все-таки выжил и даже вернулся в свою старую семью, к жене, которая, ранив его, потом много месяцев самоотверженно выхаживала.
В то время, когда мать спасалась в Крыму, ее второй муж посватался к Наташе. Еще когда они жили с матерью, он иногда залавливал ее в коридоре и целовал, потом из-за разводных дел они несколько месяцев не виделись, а тут, дня через три после отъезда матери, он позвонил, сказал, что очень скучает без Наташи, что знает всё про их дела и ждет в гости к своей сестре. Наташа думала, что у него будет вечеринка, и поехала. Вошла – а там никого, только накрыт стол на двоих, стоят приборы и в ведерке со льдом две бутылки шампанского. Наталья потом рассказывала матери, что, когда он ее посадил на колени, у нее и в мыслях ничего не было – всё равно как отец, а он поцеловал ее в губы и говорит: «Наташа, я тебя давно люблю. Когда мама вернется, я с ней поговорю, она против не будет». Наташа тогда сказала ему, что через месяц выходит замуж, и он отпустил ее.
За год до этой истории она познакомилась с греческим послом, который ухаживал за ее подругой. На один из приемов та взяла с собой Наташу, посол увидел ее, влюбился и бросил подругу. Почти каждый день они катались по Измайловскому парку или за городом на его шикарной американской машине, кажется, это был «кадиллак», потом возвращались в посольство, и там, в его кабинете, на столе их уже ждали две хрустальные чаши с черным и зеленым виноградом, а рядом третья – с водой, окунать ягоды. Посол очень интересовался патриархом Никоном, и один раз они ездили совсем далеко, в Новоиерусалимскую лавру. Купались в Иордане, как раньше называлась Истра, объездили все окрестные деревни: и Назарет, и Вифлеем, и Тивериаду. До шестнадцати лет он жил в Палестине, где его отец возглавлял греческую православную консисторию, и теперь всю обратную дорогу рассказывал ей о земной жизни Спасителя, о Палестине, о Иерусалиме, о том, как выглядят по-настоящему Назарет и Вифлеем. В тот же день вечером он, зная, что Наташе скоро исполнится семнадцать лет, подарил ей на день рождения прелестные лайковые туфельки с тонкой золотой отделкой, самые красивые из всех, какие у нее когда-либо были.
Недели через две после той поездки, когда Наташа, как всегда поздно, вернулась домой со свидания, мать сказала ей: «Днем приезжал офицер из ГПУ, спрашивал тебя, куда ты ушла и вообще чем занимаешься. Я ответила, что ничего не знаю, что ты будешь нескоро, если вообще придешь домой ночевать». Наташа испугалась не знаю как, мать тоже была очень напугана, умоляла ее расстаться с греком, уехать хотя бы на время из Москвы, пока дело не уляжется и про нее не забудут.
Уехать Наташа не решилась и стала прятаться. Мать скрывала ее в своем салоне, в маленькой темной комнатушке, где когда-то спал швейцар. Через неделю офицер приходил снова, опять не застал ее и оставил бумагу, в которой значилось, что Наташа должна явиться к нему на Лубянку завтра в одиннадцать часов утра. Как только он ушел, мать сразу же побежала к ней, рассказала, и они вдвоем, сидя в Наташином убежище, проревели всю ночь. Утром мать сказала ей: «Что ж делать, Наташа, иди, а то всё равно хуже будет», – собрала ей смену белья в узелок, и Наташа пошла.
Следователь, что ее вызвал, встретил Наташу очень любезно, сказал: «Вам нечего бояться, мы ничего от вас не хотим. Просто этот ваш посол подозревается в шпионаже, и нам надо знать, где и когда вы встречались, куда ездили и всё такое».
Наталья ответила, что ничего между ними особенного не было: катались несколько раз на машине и туфельки он ей подарил на день рождения, они, кстати, оказались малы, и она их вернула (это было неправдой). Ее поблагодарили за помощь, а через два дня позвонили снова и предложили работать у них секретаршей. Наташа тогда как раз искала работу и согласилась. Печатать она научилась у матери еще несколько лет назад, и ей нравилось это дело. Грека через месяц выслали, он действительно оказался шпионом.
В ОГПУ Наташа проработала полтора года, пока не вышла замуж. Она оказалась очень хорошей машинисткой – и грамотной, и старательной, все любили ее и ласково звали «Золотые ручки». В ОГПУ за ней многие ухаживали. Была она молоденькой, хорошенькой, с чудным цветом лица – всегда румянец во всю щеку, не выспалась ли, плакала ли – ничего не смывало.
Ей чекисты тоже нравились. Наташа рассказывала матери, что многие были прямо красавцы: высокие, стройные – как белогвардейские офицеры. Но вышла замуж она не за молодого чекиста, а за человека, который был ее старше на двадцать лет.
Однажды ее вызвал к себе в кабинет заместитель Дзержинского, начальник следственного отдела ОГПУ Николай Иванович Старолинский. Сначала она очень удивилась, а в кабинете уже всё поняла. Через три месяца они поженились, и она с ним была очень счастлива, хотя брак их был совсем недолгим – меньше двух лет. В самом начале двадцать четвертого года он умер от крупозного воспаления легких.
Жили они дружно и весело, почти каждый день в доме были гости. На их четверги часто заходили Брюсов, Маяковский, Бабель, Брики, иногда они приводили с собой кого-нибудь из молодых, и тогда перед ужином устраивались импровизированные читки, обычно стихи, реже проза. Слушали очень благожелательно, старались поддержать, и кое-кому из молодых Старолинский потом помогал и с печатанием, и с жильем. Он очень гордился тем, что его дом известен в Москве как литературный салон.
Было время, когда и сам Николай Иванович примыкал к символистам, дружил и подражал Андрею Белому, был участником многих встреч в знаменитой башне Вячеслава Иванова. В девятом году, незадолго до того, как перешел на нелегальное положение, он закончил первую часть большого романа, которая так и не была опубликована; ее читали все завсегдатаи дома, и, хотя самому Николаю Ивановичу она теперь казалась наивной, Брюсов считал, что ее надо опубликовать, и что если бы она вышла тогда, когда была написана – пятнадцать лет назад, – наши сегодняшние представления о прозе символистов во многом бы изменились. Он искренне жалел, что Николай Иванович ушел из литературы и больше не пишет.
Одна Наташа знала, что Николай Иванович продолжает писать. Делал он это только на работе, в своем кабинете, и тогда возвращался глубокой ночью. Домой он никогда не приносил ни одной страницы, хотя Наташа много раз предлагала ему перепечатать текст, она сама часто скучала без лубянковской суеты и коловращения, без того, что все спешат и всем срочно, без своей машинки, но он всегда отказывался, целовал ей руки, говорил, чтобы о машинке она забыла и лучше он споет ей арию Риголетто (у него был хороший баритон). Уже потом, после смерти Николая Ивановича, к ней несколько раз заходили его сослуживцы, забрали все бумаги, много раз под разными предлогами спрашивали ее об этой рукописи, и Наташа была благодарна мужу, что ни разу не видела ее и легко может сказать, что даже не знает, о чем речь.
Тем не менее Николай Иванович дважды говорил с ней об этой работе, оба раза немного выпив (вообще же он почти не пил) и раззадоренный чужим чтением. Ему тоже хотелось почитать свое, и было видно, как тяжело год за годом писать в стол, в сейф, никому ничего не говоря, не читая, не показывая. Каждый раз всё было коротко, сумбурно, и она запомнила немногое. Первый разговор был почти сразу после их женитьбы. Гости разошлись, она убралась, легла, уже засыпала, когда он вошел в ее комнату, поцеловал и сел рядом. Она видела, что он хочет о чем-то с ней поговорить и не знает, с чего начать. Она поняла, что должна помочь ему, и неизвестно почему спросила про революцию. Он задержался, но ответил. Наташа из-за этой «революции» потом всю жизнь считала себя дурой – она была уверена, что он приходил тогда совершенно с другим, но говорить не решался, и был рад и благодарен ей, когда она указала ему выход.
«Может быть, ты права, Ната, – сказал он, – начать надо с революции. Как получилась эта революция, кем она сделана – никому не известно. Реально ее никто не ждал и почти никто не хотел. Правда, было много людей, которые по многу раз ее предсказывали, долгие годы пророчествовали о ней, может быть, они испугались, что останутся лжепророками и, как Иона у стен Ниневии, воззвали к Господу: почему он не разрушил еще града сего? После революции осталось совсем мало таких, кто был за нее или против. Все остальные – серая масса, ничего не понимающая и ничего не хотящая, болото, которое засасывало и топило революцию. Из тех, кто звал ее, большинство тоже отошло, их пророчество оправдалось, и они, как и это болото, ничего больше не хотели. Даже мечтавшие о революции мало что в ней понимали и тыкались в разные стороны. Правда, мы всегда знали, кто сегодня наш враг, а кто друг, кто с нами, кто против нас, и от этого шли. Мы надеялись, что гражданская война раскачает болото и определит всех, но таких оказалось немного, да и то я боюсь, что пройдет еще два-три года, и всё опять уляжется».
Потом он начал рассказывать ей, как ездил курьером между Стокгольмом и Петербургом, как один раз его сцапали, судили, но с этапа он бежал – было это в январе семнадцатого года, – снова вернулся вспять и заговорил о своем первом романе:
«Понимаешь, Ната, литература – это такая вещь… у писателя нет материнского инстинкта, он рождает человеков, растит их, потом судит и сам приводит приговор в исполнение. Те, кого из рожденных им он любит больше других, почти всегда гибнут. Сейчас мы хотим использовать это качество литературы. Литература должна помочь нам. Она будет писать только тех, кто точно и твердо знает, что надо, те, кто против, останутся как фон, а всё болото, все остальные должны исчезнуть. Они должны исчезнуть навсегда, навечно, исчезнуть так, чтобы о них ничего не знали ни дети их, ни внуки, даже то, что они вообще были. Они должны сгинуть, как сгинули и растворились бесписьменные печенеги и половцы».
Второй раз он заговорил с ней об этом больше чем через год, тоже в их обычный четверг, когда Брюсов, особенно много льстивший ему весь вечер, ушел – и они остались в столовой одни. Николай Иванович сказал ей:
«Их жалко, они бесконечно завидуют Менжинскому, мне, Брику, что мы вовремя ушли от фантомов, мистики, идей, от всего: и от символизма, и от футуризма – в реальный мир. Они преклоняются перед нашим миром, потому что у нас всё подлинно: и страх, и предательство, и страдание, и самое главное – смерть. Они знают, что мы вот этими руками пишем романы из живых людей, романы, в которых всё настоящее, а им никогда даже не приблизиться к этому. Агранов не понимает их. Он до сих пор уверен, что они льнут к нам потому, что мы власть и нас боятся, потому что надеются, что, если попадут к нам, мы их по старой памяти не расстреляем. Или они нас хорошо изучат, а потом переиграют и обманут – опять же вывернутся. Он вчера ко мне снова зашел и говорит: “Ты их хоть раз не домой, а сюда, в кабинет, пригласи, и тебе и Наташе хлопот меньше, и если потом соблаговолишь их отпустить, они не за чай благодарить, а всю жизнь на тебя молиться будут”. Зря он так, конечно.
Знаешь, Ната, я уже лет пять как по-новому стал понимать нашу работу. Мне и самому еще далеко не всё ясно, а другим рассказывать тем более рано. Недели две назад вызвал я своих ближайших сотрудников, начал, а через минуту вижу – говорю плохо, нечетко, мну слова, я и оборвал, на текучку свел. Написано уже много, а конца не видно. Даже названия толком нет. Наверное, будет что-то близкое к “Поэтике допроса”. Год назад я тебе говорил, чтoˊ в эту революцию должна сделать литература, кто в ней погибнет страшнее всего, навсегда. Так вот: мы, чекисты, спасаем их. Все те, кто пройдет через наши руки, спасутся. Мы воскресим даже многих из уже погибших.
Год назад я добился новых папок для дел. На них надпись: «Хранить вечно». Подозреваемые боятся их как огня. Они уверены, что из-за этой надписи мы, как в аду, будем расстреливать их изо дня в день до скончания века. Какая чушь! Так они обречены, а эта надпись сохранит их, не даст сгинуть.
Вот ко мне ввели подозреваемого. Я пишу номер дела, его фамилию, открываю папку и начинаю допрос. У меня уже есть версия. Но если я вижу, что она не подходит к обвиняемому, я легко отказываюсь от нее. Я говорю с ним каждый день и с каждым днем всё лучше понимаю его, всё легче подбираю ему связи, контакты, сообщников, наконец, то, что он совершил. Он никому не верит, ничего не понимает, всего боится. Он пытается объяснить мне, что ничего не смыслит ни в революции, ни в контрреволюции, что всегда хотел только спастись, спрятаться, переждать, что больше ничего не делал, что это не преступление. Я слушаю его голос, самый темп речи, смотрю на его глаза, руки, он становится мне всё яснее, всё ближе, и я уже легко нахожу самое трудное – детали. Тут важна каждая мелочь: и место, и обстановка, и погода, и время. Разные люди по-разному ведут себя утром и вечером. Детали соединяют картину, делают ее живой. Если они подлинны, она сама начинает говорить с тобой. И вот приходит момент, когда обвиняемый понимает, что я прав, что это он и есть, что я, как отец, породил и создал его, и он сознаётся, что это он. Тогда наступает самое главное, то, для чего шла вся работа. Этот обычный человек начинает с блеском и талантом рассказывать о себе. Страха уже нет. Он говорит и говорит, он захлебывается и не может остановиться. Я пишу и с трудом успеваю за ним. Он рассказывает мне поразительные вещи, вещи, о которых я, создавший его, и не подозревал. Когда я писал свой роман, то знал – лучшие куски не те, что я лучше придумал и потом записал, а те, где, когда я писал, для меня всё было новым, где я уже создал своих героев, они живые, и думают, и живут сами. Здесь то же самое. Пойми, разве нам нужен суд? Есть только я и он».
Через месяц после этого разговора, день в день – она помнила это точно – он заболел и слег с тяжелейшим воспалением легких. Последние дни болезни Николая Ивановича Наташа безотлучно находилась при нем. И от врачей, и сама она уже знала, что ему не встать. За два дня до смерти температура неожиданно спала и он последний раз пришел в сознание. Она села у изголовья, взяла его руку, и он сказал: «Наташа, запомни, когда я умру, я буду тебе помогать. Если тебе что-то понадобится, приходи на мою могилу и проси – я помогу тебе».
После смерти Николая Ивановича Наташа жила очень плохо, много плакала и почти не выходила из дома. Она не могла найти никакой работы, за несколько месяцев распродала и проела всё, что у них было, и осталась совсем без денег, одна, в большой пустой квартире. С квартирой тоже всё было неладно. Еще осенью ей сказали, что она ведомственная, что она нужна другому заместителю Дзержинского и в конце года Наташу выселят. Тогда она решилась обратиться к мужу. Собралась, купила на рынке на последние деньги большой букет хризантем, его любимых цветов, и поехала на кладбище.
Было холодно, она дрожала, никак не могла начать. Сделала всё нужное и ненужное, поставила в банку хризантемы, окопала цветы на могиле, полила их, хотя было и так мокро, долго сидела на лавочке. Наконец, когда надо было уже возвращаться, попросила его помочь с работой, испугалась, покраснела и быстро ушла. Дома Наташа долго ругала себя, плакала и не могла заснуть. На следующее утро ее разбудил телефонный звонок из Наркомата путей сообщения: предлагали за хорошую плату вести у них курсы машинописи. В общем, с работой у нее всё наладилось.
Прошел почти год после смерти Николая Ивановича, когда Наташа поняла, что жить одна, без мужчины, она больше не может. Она снова поехала на кладбище, дала сторожу денег, чтобы он заново покрасил ограду, не спеша привела в порядок могилу, села на лавочку и сказала: «Николай Иванович, тяжело мне одной. Ты уж не обижайся, а помоги мне найти кого-нибудь…» Когда она возвращалась домой, в трамвае с ней заговорил видный, красивый инженер. Это был Федор Иоганнович Крейц-вальд. Через месяц после их первой встречи ее выселили из старой квартиры, и она окончательно переехала жить к нему.
В течение следующего года Наташа по очереди была женой всех трех братьев. Меньше всего – месяц – Федора, который привел ее в дом, больше всего – второго брата, Николая. Уйдя к другому, она продолжала, как и раньше, заботиться о своем прежнем муже, обстирывала, кормила его. Безусловное право на это – единственное условие, которое она ставила новому. Того, кого она бросила, она ревновала едва ли не больше, чем того, с кем жила. Малейшие подозрения на роман (всегда совершенно беспочвенные) вызывали у нее безумную ярость, которая кончалась апатией и депрессией. Много раз она спрашивала себя, почему ревнует, почему уходит от одного к другому, и ничего не могла сказать. Попытки сближения между братьями тоже вызывали у нее раздражение. Ей казалось, что это свидетельство недостаточной любви к ней самой.
К началу двадцать шестого года Наташа снова замужем за Федором, а Николая и Сергея уже нет. Сейчас, когда с тех пор, как их не стало, минуло почти пятьдесят лет, я пытаюсь понять, что же тогда произошло в их доме. В свое время Ирина, мать Федора, Николая и Сергея, не сумела родить мужу трех сыновей. Она воспользовалась любовью к ней старшего сына и из прихоти растроила его. Наташа поселяется в их квартире и переходит от одного брата к другому. Она переходит из комнаты в комнату, ничего не забирая с собой, и почти ничего не меняется в ее жизни. Всех братьев она любит и продолжает любить того, от кого ушла. Разводы ее заключаются только в переезде из комнаты в комнату. На тот вопрос, почему она уходила к другому, мы теперь знаем ответ. Она любит их всех, и все они влюблены в нее. Ни до, ни после нее ни у кого из них не было в жизни любимой женщины. Значит, несмотря на всё их несходство, они и она были задуманы друг для друга. Любовь к ней вытесняет в них любовь к матери. Она становится главным, подминает под себя все их особенности, все их различия, и они с каждым днем начинают всё больше сближаться, всё больше походить друг на друга. Когда-то любовь к матери разделила их, теперь любовь к ней сводит их и соединяет. Любя их всех, она начинает восстанавливать Федора. Она лепит его, отбрасывая в нем и в его братьях всё, что не созвучно ей, не создано для нее и, значит, случайно. Соединяя их, она готовит Николая и Сергея к смерти, к возвращению и растворению в Федоре. Жизнь, начавшаяся в их матери, кончается в ней и через нее.
Потом, когда ее работа была закончена и она вернулась к старшему брату, Федору, в два года, пока она еще хорошо помнила младших – Николая и Сергея, она рожает ему двух сыновей – тоже Николая и Сергея. Это они и есть. Это те сыновья, которых не сумела родить Ирина. На Федора они не похожи. Только через восемь лет, в 1936 году, за год до их ареста, она родит Федору третьего сына, тоже, как и он, Федора, но он так и не узнаˊет, что этот сын повторит его.
Лето тридцать седьмого года было очень жарким. В начале июля Наташа отправила годовалого Федора-маленького (так его звали в семье) с нянькой на дачу в Кусково, к своему двоюродному брату, и впервые за несколько лет она и Федор остались в квартире одни. У брата не было детей, и его жена Марина много раз предлагала, чтобы Федор-маленький жил летом у них. Наташа знала, что ребенку там будет хорошо: дача большая и, главное, теплая, вокруг прекрасный лес, деревенское молоко, на субботу и воскресенье, чтобы повидать ребенка и дать Марине и няньке отдохнуть, она будет сама приезжать в Кусково. Старшие дети, Николай и Сергей, тоже устроены, они сами захотели остаться на второй срок в пионерском лагере; кажется, лагерь неплохой и они не очень скучают. Вдвоем с Федором ей хорошо. Ната знает, что, родив трех сыновей, она сделала то, что должна была сделать, знает то, чего не знает Федор-старший: Федор-маленький будет как две капли воды похож на отца.