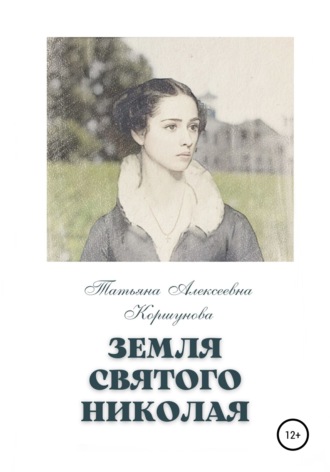
Полная версия
Земля святого Николая

Татьяна Коршунова
Земля святого Николая
Посвящается памяти моего дедушки
Коршунова Александра Васильевича
Пролог
Сейчас на этом месте ничего нет. Пустое безликое поле. Но кто бы ни проехал мимо – всяк залюбуется пейзажем, а то и остановится набрать букет сирени. Попробовал бы кто сломать здесь веточку века два назад! На земле рода княжеского, наречённой именем Первино.
***
Первино – первое. Родовое гнездо. А история была такова.
В 1766 году сын князя Первинского поступил на службу в Углицкий пехотный полк. «Николай. Андреев сын. Пер-вер-нинской», – переврал тугоухий писарь. Так и пришлось Николаю с этой фамилией служить. А потом он с ней и в Польшу с Суворовым пошёл. Боевые раны, медали, ордена… Вернулся из Турции князем Превернинским. А за скромность и верность Екатерина Великая титуловала его Светлостью и даровала во владение соседние с Первином земли – за рекой. Там и начал строить Николай Андреевич второе имение – для сына. Превернино. Огромный белый дом с колоннами – на холме, с пейзажами из окон, с облагороженным садом. Под вкус и стать молодёжной моде.
Юность его единственного сына Фёдора выпала на недолгое правление императора Павла, эпоху напудренных париков, прусской муштры и дворцовых интриг. Успел он и в гвардии послужить, и Европу посмотреть. Его любили видеть на придворных балах. Там он и суженую нашёл: чернокудрую, как креолка, стройную, как Клеопатра, в дорическом хитоне и диадеме с камеями.
Они сочетались, как чёрное и белое, как снег и земля. В Первино Мария везла парижские журналы мод и платья со шлейфами.
– Куда же ты, матушка, ходить в них собираешься? – смеялся Николай Андреевич. – Балов мы не даём. У нас в доме и залы-то бальной нет.
– В крепостные театры. К соседям, – подшутил над женой Фёдор.
Через семь лет дормез перевозил её в Превернино – располневшую, с шестилетним озорником, её трёхлетней копией и годовалым младенцем с ямочками на щеках.
Сам же Николай Андреевич лелеял Первино как память об отце, дедах и прадедах. Обновил старый дом: выбелил краснокирпичные стены, надстроил бельведер, расширил крыльцо и крышу поставил на четыре греческие колонны. При нём были посажены и липовые аллеи, и дикий яблоневый сад, и кусты сирени. Он не гнушался и деревья сажать, и сам из рук зерно сеял – только что землю не пахал. «Бог тружеников любит», – говорил он сыну с невесткой. И нива откликалась его сердцу золотым урожаем. Пока не призвал его Господь оставить эту землю – балованное дитя, наследство Фёдора и троих его детей.
Так у всех: ушли годы, когда мы любим и почитаем, и наступает черёд, когда будут любить нас, и кто-то, маленький и беззащитный, теперь будет нуждаться в нас и нашей опеке. А потом оплакивать нашу кончину и начинать всё сначала. Просто же – да только не из глубины семейного очага. Вот уже и Фёдор Николаевич задумывался, кому из детей оставить отцовскую землю. Владимир промотает. Евдокия – та вся в матушку, ей лишь в Петербурге место. Только Ольге. «Жаль, я не назвал тебя Надеждой, в честь бабушки моей», – думал Фёдор Николаевич над её колыбелью. За голубые глаза, за пепельно-белые волосы с ореховым блеском, как у него самого, и назначил отец Ольгу ещё в колыбели своей преемницей. Она и росла самой толковой. Ещё ребёнком, бывало, как глянет на гувернантку честно-чистыми голубыми глазами, поведёт изогнутой бровью – так и француженка в собственном французском усомнится.
Глава I
Предрождественским вечером 24 декабря 1824 года к дому Превернинских подъехали сани. Лошади еле добрались по сугробам. Верстовые столбы замело, и не видно было ни зги – только мутный месяц сеял свет на дорогу.
В гостиной Евдокия и Ольга, обе в расклешённых платьях с поясками чуть выше талии, рукодельничали в креслах. На овальном чайном столике снежными комочками ютились в корзинке клубки ниток. Зеленели гобелены на стульях у стены и ломберные столики по углам. В тени у камина спал клавикорд – последние часы Рождественского поста.
За окном завывала метель, ветер звенел в стекле.
Там было темно и жутко.
А здесь, в комнате, кленовый паркет грел балетные туфли с помпонами, потрескивал огонь в камине, тикали настенные часы, и бронзовые подсвечники пахли тающим пчелиным воском.
– Слышишь? Собаки залаяли. Должно быть, ряженые приехали, – Евдокия отложила недошитую детскую рубашку и подошла к окну. Откинула за плечи две толстые косы, вгляделась в темноту. Дочерна-русые волосы, как у японских красавиц густые над висками, круглили её лицо с острым подбородком.
Белые двери растворились к мраморным колоннам.
– Держу пари, вы меня не ждали! – Владимир вошёл в гостиную. Распахнутые полы драпового чёрного редингота внесли за ним шлейф уличного холода.
– Для кого стараются дорогие сестрицы? – чёрные усики окропили Ольгину щеку каплями талых снежинок.
– Дочка меньшая ключницы нашей родила намедни девочку. Подарки готовим.
– О! Весьма рад!
Он подкрался к окну, отодвинул жёлтую бахромчатую портьеру – и обнаружил другую сестру:
– Уж и брата поцеловать не желаете!
– Да я ж тебя наперёд заприметила.
Владимир обнялся с Евдокией. Вальяжными шажками направился к полосатому дивану, сел и принялся стягивать на краповый1 ковёр мокрые сапоги.
– А что маменька с папенькой? – он пихнул под шею подушку. Локотник, изогнутый рогом изобилия, скрипнул под его закинутыми ногами.
– Папенька в кабинете, маменька в спальне отдыхает. А мы ждём ряженых. Да что-то не едут, – Евдокия вернулась в кресло, разложила на коленях рубашку – так и эдак. «Дошить? Или Бог с нею, пусть назавтра остаётся?..»
– Ха-а! Да кто ж в этакую мглу колядовать отважится? Я сам едва с пути не сбился! А что ж вы не ворожите?
– Мы нынче не будем ворожить, – Ольга оборвала шерстяную нитку. – Боязно.
– И суженых знать не хотите?
– Лучше ты, Володя, расскажи нам. Что нового в Петербурге? Какой у тебя там нынче… интерес? А? – маленький рот её растянулся в улыбку, и на щеках появились ямочки.
Большие голубые глаза брата забегали, длинные загнутые ресницы зашалили:
– О, это такая юная красавица – нежная, как бутончик! И она уже мне доверяет!
– М-м-м! Как её зовут?
– Её зовут – Натали… Ей всего шестнадцать. Она прелестна – но… уж-жа-асно недогадлива! В канун наводнения у Белозёровых в доме забыла браслет – я привёз к ней вернуть. Улыба-ается… Мол, подарок папеньки покойного, память, «думала не найду», ах-ах… Мы с нею в комнате – en tête-à-tête! Я намекаю, что заслуживаю благодарности!.. А она, вообразите, отвечает: «Oui, bien sûr! Je vais dire tout de suite à maman de vous remercier!»2
– Не так глупа твоя Натали. А ты, Володя, коварен! Что бы ты сделал, когда бы кто-нибудь так поступил со мной или с Дуней?
– Я вызвал бы его – на дуэль! Хе… А хотелось бы мне посмотреть на того чертяку, кто бы осмелился…
Брат выставил локоть – в него полетел белый клубок.
Метнув «артиллерию» обратно Ольге в подол, он поднялся с дивана и направился в кабинет отца. Босиком, в одних полосатых чулках. Дома не в столице – всё простительно. Пустая зала, лестничный вестибюль, коридор, тёмный до жути, – у порога Владимир сделал невинные глаза и открыл дверь.
– Здравствуй, сын! Вернулся к Рождеству!
Отец поднялся с кресла навстречу и поцеловал его в послушные тёмно-русые волосы.
– Я, папенька, с просьбой к вам…
– Опять?!.. Только не говори мне… Снова проиграл?
По оконному стеклу сыпануло снежной картечью – огонёк колыхнулся в лампаде на подоконнике.
– Сколько на сей раз?
– Шестьдесят две тысячи.
Фёдор Николаевич схватился за лоб:
– Шестьдесят две! В прошлый раз было сорок пять тысяч! Скажи, Владимир, чтó может тебя научить? Ты никогда не поймёшь!
Он прошагал к окну – глянуть, где поддувает рама. Сын стоял с опущенными глазами.
– И без того наше положение сейчас худо! Урожай гниёт, сбыта нет. Люди наши в рванине на поле выходят, а нам на закупку зерна денег не хватает! Ежели так и дальше будет… Да будет тебе известно, твоя сестра Ольга остаётся без приданого! Ты знаешь, Владимир: для нас с матушкой в долгах жить смерти подобно. Одно нас от разорения спасти может – продать имение дедово. А тебе я поручаю найти в Петербурге покупателя…
Владимир поглядывал на яблочно-зелёный фрак отца, когда тот отворачивался. Но…
Что? Продать?..
Его длинные ресницы дрогнули.
– Папенька!.. Нет… Дедушкино имение… Только не его!
– Молчи! И слушай! Найдёшь в Петербурге покупателя – не продешеви. И узнай наперёд, в какие руки мы отдадим наше родовое гнездо. Но… имей в виду одно, – голос Фёдора Николаевича надломился. – Ежели я узнаю… Ежели ты имение деда промотаешь…
– Да как вы могли обо мне так подумать? Папá… Вы полагаете, для меня нет ничего святого. Да за дедушкину землю я жизнь отдам!
В горло потекли слёзы – Владимир сглотнул. Модный галстук d'écorce d'arbre3 передавил «адамово яблоко». Он толкнул локтем дверь.
В коридоре мрел силуэт розового платья. Ольга…
– Ну, что? Сколько ты выпросил у папеньки?
Зачем же ещё братец мог заходить в кабинет отца?..
– Папенька… дедушкино имение продать намерен.
– Продать?! Первино?! – разверзнутые глаза сестры блеснули в темноте. – Поди, скажи Дуне! – бросила она на ходу и рванулась в дверь.
– Папенька! – Ольга обежала письменный стол и кинулась к отцу в ноги. – Папенька, ведь это же неправда? Скажите, что вы пошутили! Вы ведь не продадите наше Первино?
– Папенька! Смилуйтесь! – Евдокия влетела в кабинет и упала на колени рядом с сестрой. – Это же дедушкина земля! Как жить без неё?
Острые пальцы её впились в хлопковый сатин отцовских карманов. Владимир, как холёный чёрный кот, в драповом фраке, вошёл в бесшумных чулках и прирос к ковру у книжного шкафа.
Сёстры перебивали друг друга, как галчата в гнезде.
– Что за крики? – маменька появилась в дверях. – Володя! Давно ли ты приехал? Отчего не зашёл?
За нею простучала коготками по паркету рыжая комнатная собачка.
– Извольте узнать, Марья Аркадьевна, сколько проиграл сынок ваш. Шестьдесят две тысячи! – Фёдор Николаевич выдернул руку из-под Ольгиной щеки. – Как вы думаете, где я должен взять эти деньги? Где?
– Да что всё я да я? Помнится, дедушка рассказывал, как вы, папенька, будучи неженатым, приезжали домой таким пьяным, что из кареты вас под руки тащили. А проигрывали вы и поболее моего. Так что мы с вами вместе старались!
– Я был единственным, а вас – трое!
Княгиня хлопала карими глазами то на сына, то на мужа. Дочери рыдали на два голоса, их косы обметали пол у ножек отцовского кресла.
– Ольга, прости, – Фёдор Николаевич погладил светлую голову младшей. – Я понимаю твои слёзы. Но иного решения не усматриваю.
– Да я не за себя, папенька, я за всех нас прошу! Мы же память дедушки предаём!
Евдокия смотрела, как добрый послушный ребёнок: подняв высокие брови, похожие на мазки угольной краски:
– Отчего нельзя продать что-нибудь другое? Неужели у нас ничего больше нет? Продайте дом в Петербурге.
– Но, Дуня! Это твоё приданое! – вмешалась Мария Аркадьевна. – Замуж ты выйдешь вперёд Ольги. Тебе там жить.
– Я не хочу жить в Петербурге, маменька! И дом этот мне не нужен, а имение дедушкино всем нам дорого!
– Что ж… если и необходимо продать имение, так продайте уж лучше это, – промямлил Владимир. – Право… если возможен выбор…
– Я сказал – всё! – Фёдор Николаевич встал, стряхнул с обеих рук дочерей и упёрся кулаками в стол. – Пошли все вон!
***
Так и не приехали ряженые – да и слава Богу… До них ли было?
Сёстры и брат втроём сидели на кушетке Владимира за белыми колоннами в его маленькой спальне, в тишине и темноте. Шептались. Будто в голос говорить грешно было. Свеча на консоли письменного стола то тускнела, то разгоралась; по гобеленовому панно прыгали тени от охотничьего ружья и гусарской сабли в железных ножнах.
– Когда мы переехали сюда от дедушки, мне было шесть лет. Я так ясно помню, как мы там жили. Как Оля появилась, помню. Ты помнишь, Дуня?
– Нет… Мне всего-то два года было. Для меня будто Оля всегда была. Помню только, как Оля училась ходить и скатывалась с лестницы на крыльце? Летом.
– Да, Оля была маленькая, кругленькая, с короткими ножками. Забавная!.. Дедушка смеялся, когда она бегала. Помнишь, как он её называл? Кулё…
– Кулёма, – подхватила Евдокия.
Ольга улыбнулась:
– А я жизни в Первине совсем не помню. У меня в памяти осталось, как Володя пролил чернила у папеньки на столе. Здесь уже.
– В «новом доме» – как мы с Дуней называли.
– Да… Так вóт. Володю тогда наказали за эти чернила: заставили сидеть в тёмной комнате. А дедушка…
– А дедушка отругал папеньку за меня! Заставил выпустить. Я тогда сказал, что жить к дедушке уйду. Навсегда. Да маменька не пустила.
– А как-то у дедушки Арина принесла сосновых шишек для самовара! Зачем она их в гостиной оставила? На столе… А Володя стал кидаться. Мы – в ответ. И Оля попала в портрет дедушки. А потом плакала, просила прощения и кричала, чтоб дедушка её наказал. Помнишь, Оля?
– Да-да! И дедушка посадил меня к себе на колени, и вытирал мне слёзы своим платком. А платок табаком пах, вкусно.
– Ещё бы. Не каким-нибудь турецким, а на дедушкиной земле выращенным, – Евдокия промокнула глаза бугорком ладони.
Слезинки капали то на синее платье, то на розовое. Вот и ночь перед Рождеством…
А за окном до рассвета тревожно выла метель.
***
Утром Превернинские собрались к завтраку – все молчали. Солнце искрило в глаза из оконных узоров. Горничная Алёна в белом переднике разливала кофе с сахаром.
Хлопнула входная дверь.
– С праздничком! С Рождеством Христовым! – послышался тонкий женский голос.
Отставной полковник Московского драгунского полка Евгений Кириллович Заряницкий приходился Фёдору Николаевичу племянником в пятом колене. Молодую жену – свою Любовь, Алексеевну, первый раз он привёз в Превернино за три года до Наполеонова нашествия. Привёз, будто дочку. На девять лет его моложе, на две головы ниже. В ангельских медовых кудряшках и розовом платье в чёрный горошек.
– У Заряницкого вкус недурён, – признался жене Фёдор Николаевич. – Но жаль молодку. Сколько ей? Семнадцать? Ребёнок совсем. Придёт время: Евдокию за кого хотите выдавайте. А Ольгу – не дам! Только за молодого пойдёт!
Да не так-то было.
Любовь Алексеевна по душам с Марией Аркадьевной разговорилась и призналась:
– Я Евгения Кириллыча девочкой десятилетней полюбила. Приехали мы как-то с бабушкой в гости к родне его, а он служить ещё начинал. Как увидела его в драгунском мундире, с розовыми воротничками – так внутри всё и перевернулось. Знаю, осудите вы меня, отвернётесь… А как он из Австрии вернулся, не смогла я больше… Приехала одна к нему домой – да в чувствах своих и открылась. «Что ж теперь, – говорит он, – мне остаётся? Только жениться на вас. Я, – говорит, – под Прейсиш-Эйлау такого повидал, что о любви ли думать? Ласке я разучился. Выйдете за меня – наплачетесь».
Через год они к Превернинским с сыном приехали. А ещё через два: Витебск, Смоленск и Бородино, Вязьма и Красный, Лютцен и Бауцен, Лейпциг и Фер-Шампенуаз…
– Молись, Мишенька, за папеньку молись! Помолимся вместе, – шептала Любовь Алексеевна.
И младенец, в таких же, как у неё, медовых кудряшках, хлопал серо-зелёными отцовскими глазами из колыбели. На икону Спаса Нерукотворного в тёмном уголке под красной лампадкой – куда смотрела маменька и почему-то плакала.
***
– Добро пожаловать к столу! – воскликнула Мария Аркадьевна. – Какая радость право, что вы приехали!
Алёна засуетилась с посудой. Московские гости уселись за стол.
– Ну, Миша, спой тропарь Рождества, – попросил Фёдор Николаевич крестника.
Круглолицый кудрявый подросток с большим не по годам носом встал со стула.
– Рождество Твое, Христе Бо-же наш, возсия-я мирови свет ра-азума, – пропел он благодатно-тихим тенором. С непривычки казалось, что мальчишеский голосок его осип от жабы, – в нем бо звездам служа-щии звездо-ою уча-ахуся Тебе кланятися, Солнцу Пра-авды, и Тебе ве-дети с высоты Восто-ока. Господи, сла-ава Тебе!
Зашелестели рукава – все перекрестились. Зажурчал кофе по чашкам, звякнули по тарелкам с пирожными серебряные ложечки.
– Не передумал насчёт духовной семинарии? – спросил Фёдор Николаевич.
– Нет.., – Миша закраснелся. Вот только что получилось спеть так красиво – и вдруг откуда-то бас вышел. Да ещё и замолчали все.
– А мы вам подарки привезли, – сказала Любовь Алексеевна.
Лица Владимира и Ольги сделали неудачную попытку улыбнуться.
– Вы нас ради Бога простите, что мы так нежданно к вам. Вчера хотели приехать, да не решились, заночевали на станции: такая пурга была, – Евгений Кириллович грел жене озябшие пальчики. Муфты, перчатки – что они против мужских горячих рук?
– Володя тоже вчера приехал, – чуть слышно отозвалась Ольга.
– Напрасно вы вчера задержались, – Владимир поднялся со стула. – Простите…
Ольга, сидя напротив, выпячивала нижнюю губу – того гляди заплачет. Евдокия… Её место рядом с сестрой пустовало.
– Опять ушла и не сказалась, – вздохнула княгиня.
– Что у вас случилось? Мари? – Любовь Алексеевна произносила по-московски «случилос».
– Ох, Любонька…
***
Скрепив брошью поясок русской шубки под грудью, Евдокия накинула на голову пуховую шаль, спустилась по заметённым снегом ступеням и села в приготовленные сани.
Она ехала знакомой дорогой, в своё Первино. Мороз подрумянивал щёки, чистота снега слепила до слёз.
Кучер остановил тройку перед четырьмя белыми колоннами крыльца. Барышня вышла из саней:
– Ступай к родне, погрейся.
Скрип валенок по снегу затих. Тихо стало повсюду. В этом добром уголке звуки ушли со смертью дедушки.
Опустела старая терраса, где летом дедушка пил чай с мёдом и смотрел, как на лужайке играют внучата. Не стало на столе скатерти, вышитой кружевом руками бабушки. А когда-то здесь всё жило и радовалось. Слышался детский смех. Было счастье и было лето. Каждый день внучат привозила няня в девять утра повидаться с дедушкой.
– Во-он дедушка ваш на балконе стоит, – говорила она с горки.
«Дедушка на балконе» – это означало маленькую чёрную фигурку над балюстрадой второго этажа. И вот она пропадала – и на террасе уже стоял настоящий дедушка. Улыбался: «Ласточки мои!» И доставал из карманов конфеты. Открывалась дверца коляски – и к нему бежал голубоглазый мальчишка с длинными ресницами; следом – Дунечка с тёмными косами и большой куклой под мышкой; а последняя, протягивая пухлые ручки, торопилась Оля. Дедушка садился к столу, охая от умиления, сажал маленькую к себе на колени, а старшие прижимались к обтирающему щёки чёрному кафтану. Горничная выносила на террасу медовые булочки, пирожки с малиной, лесной земляникой или яблоками, варенье в хрустальных вазочках, сладкие орехи… и – самовар! У каждого была своя фарфоровая чашка. И пусть из разных сервизов, и пусть Владимир одну разбил – но разве мог дедушка своим «ласточкам» в чём-то отказать? Чай свежий, горячий, приправленный прохладой утреннего ветра, пах дымком и сосновыми шишками. И так не хотелось уезжать домой! Дома ждали уроки, учителя и слово «нельзя». И учебник по придворному этикету с картинками, которым взахлёб зачитывалась Ольга, но зубрить его заставляли Евдокию.
А как-то в июле 1812 года внуки вернулись от дедушки, и маменька объявила дрожащим тоном:
– У нас война в отечестве.
– Где война? – спросил Владимир.
– Французский император захватил Ковенскую губернию.
– Ковенская губерния, – сказала Евдокия. – Но это же так далеко.
А в Первино не было войны. За лес садилось красное солнце, и пушки там не стреляли. Да и война – это с турками, когда дедушка воевал. Когда его ранило в голову саблей и контузило ядром. А это было давно. Чего бояться? Дедушка на свою землю не пустил бы французского императора. Как цыгана прогнал однажды. Тот пришёл и расселся на лужайке под окнами. А дедушка как вышел:
– Тебе чего тут?
– Это Бакшеевых земля, нас пускают.
– Я вот тебе дам по «бакшейке»! – суворовский офицер показал ему кулак. – Пошёл-пошёл отсюда!
Дедушка почему-то говорил, что цыгане могут украсть Ольгу.
Евдокия улыбнулась и подошла к запорошенной качели. Смахнула снег белой варежкой: под снегом блестел прозрачный лёд. Двенадцать лет назад они с Ольгой умещались на этой качели вдвоём. А дедушка сидел рядом на скамье и читал им сказки о Бове Королевиче.
В 1817-м году четырнадцатилетнего Владимира отослали учиться в Московский университетский Благородный пансион. Прощаясь, дедушка положил ему в карман зефирных панталон свой орден. Обнял внука и заплакал:
– Будешь ли вспоминать деду?
А в августе 1818 года Ольга заболела скарлатиной. И Евдокию отправили в Первино одну. Вдвоём с дедушкой они ели свежую картошку в мундире с солёными груздями. На столе лежал намытый лук – только из земли, с узкими, похожими на старорусскую палицу, головками.
– Надо есть лук, дабы не заболеть, – сказал дедушка.
Евдокия смотрела, как дедушкина крепкая рука счищала ножом сухие чешуйки, обрезáла мохнатые корешки. И на край её тарелки легли зелёные перья на белой луковке – гладкой-гладкой, чистой-чистой, без единой плёночки. «Никто не очистит мне лук так, как дедушка, – подумалось Евдокии. – А ведь однажды дедушка умрёт… Я жить не буду без этого лука!»
– Деручий лук? – дедушка заглянул ей в лицо. – Не три глазки – щипать пуще станет.
Пока не замёрзла земля, пока могла она давать зелёные перья, Евдокия нарочно просила дедушку покормить её луком. Чтобы увидеть на своей тарелке очищенные беленькие култышки – сладость дедушкиной любви.
По воскресеньям дедушка приезжал в Превернино сам, и три поколения, но уже без Владимира, ехали в село Доброво молиться. А после храма – снова к дедушке!
И однажды в мае 1819 года дедушка не приехал. Прибежала лёгкая на ногу девчонка из Первина, Татьяна.
– Барину худо! Видеть вас хотят, – сказала она Фёдору Николаевичу. – Ещё утром на поле выходили, овёс сеяли – до лесу пашню прошли. А к обеду, говорит Аринка, слегли, на грудь жалуются…
Дедушка лежал на кровати в спальне, кухарка Арина давала ему пилюли.
Внучки сели у него в ногах. Дедушка протянул к ним руку:
– Ласточки мои… Возьмите, в буфете – конфетки…
Первый раз – в буфете, а не в его руках.
– Хочу видеть Володю…
– Я напишу к нему, – пообещала Мария Аркадьевна.
Приехал уездный доктор. Девочек отправили с няней в Превернино.
– Ежели он выживет, я рекомендую вас ко двору, – последнее, что они услышали. Голос Фёдора Николаевича. И двери дедушкиной комнаты закрылись.
Ночью в пустом доме Ольга пришла к сестре в кровать и заснула с нею в обнимку.
Евдокия слышала, как приехали родители, как усталыми ногами топали по лестнице. Мария Аркадьевна заглянула к ней в комнату. Зачем заглянула?.. И Евдокия ткнулась в Ольгины волосы, чтобы вздрагивающие веки нечаянно не открылись, не предали её. Чтобы маменька подумала, что она спит, и не сказала ей, что дедушка умер.
Дедушка умер через два дня.
Владимир приехал к отпеванию. Простился с гробом. И вернулся в Москву. Летом он не выдержал экзамен по словесности. А зимой первый раз проиграл в карты последние деньги и английскую шляпу, и явился на свою квартиру пешком: с простуженным ухом – и дедушкиным орденом в кармане. Для объяснений к инспектору Владимир не явился – и, не доучась до летнего Торжественного акта, бросил пансион и уехал в Превернино.
– Инспектор виноват, что ты деда живым не застал? – гремел голос Фёдора Николаевича за дверью кабинета. – Пансион виноват? Вся Москва?.. А кто виноват? Я? Я – должен был дома тебя посадить? Недорослем?..
Мария Аркадьевна крестилась в коридоре. Что-то грохнуло об пол, рассыпалось, зазвенело – Фёдор Николаевич разбил часы. Слава Богу – не сыну об голову…
Владимир вышел бледный, со слезящимися глазами и узкими зрачками. Отмахнулся от объятий матери, пнул дверь в залу – и прошагал в свою комнату.
Через год родители попытались отдать его на службу в Александрийский гусарский полк. Но ни чёрный доломан с петлями, ни ментик с белым мехом пользы ему не принесли. Владимир играл и пьянствовал в обществе полковых друзей. Чтобы не позорить честь мундира и фамилию, он так и ушёл в отставку портупей-юнкером – и сбежал в Превернино. А оттуда в Петербург. Так и стал бегать. От себя, от памяти, от родителей, от соблазнов. От пьянства его отвернуло, и он стал любимцем петербургского бомонда – внук светлейшего князя.





