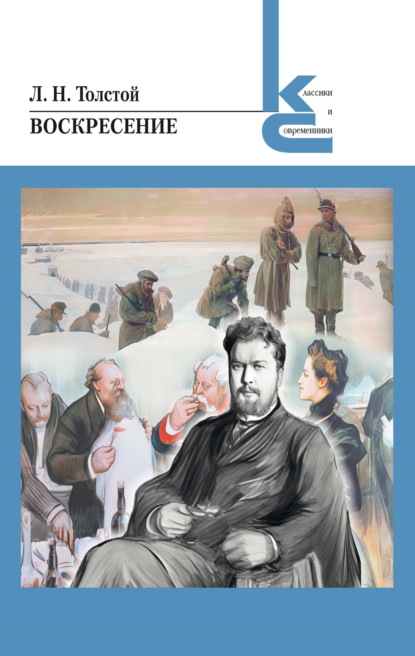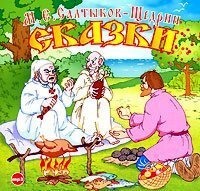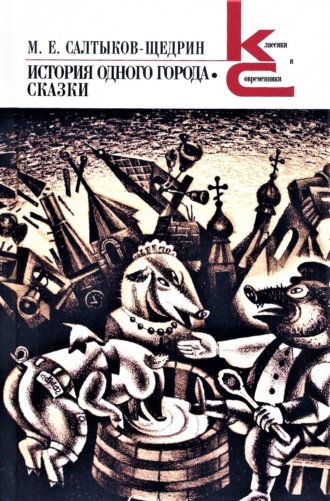
Полная версия
История одного города. Сказки
Не станем описывать дальнейших перипетий этого бедствия, тем более что они вполне схожи с теми, которые уже приведены нами выше. Скажем только, что два дня горел город, и в это время без остатка сгорели две слободы: Болотная и Негодница, названная так потому, что там жили солдатки, промышлявшие зазорным ремеслом. Только на третий день, когда огонь уже начал подбираться к собору и к рядам, глуповцы несколько очувствовались. Подстрекаемые крамольными стрельцами, они выступили из лагеря, явились толпой к градоначальническому дому и поманили оттуда Фердыщенку.
– Долго ли нам гореть будет? – спросили они его, когда он, после некоторых колебаний, появился на крыльце.
Но лукавый бригадир только вертел хвостом и говорил, что ему с Богом спорить не приходится.
– Мы не про то говорим, чтоб тебе с Богом спорить, – настаивали глуповцы, – куда тебе, гунявому, на Бога лезти! а ты вот что скажи: за чьи бесчинства мы, сироты, теперича помирать должны?
Тогда бригадир вдруг засовестился. Загорелось сердце его стыдом великим, и стоял он перед глуповцами и точил слезы. («И все те его слезы были крокодиловы», – предваряет летописец события.)
– Мало ты нас в прошлом году истязал? Мало нас от твоей глупости да от твоих шелепов смерть приняло? – продолжали глуповцы, видя, что бригадир винится. – Одумайся, старче! Оставь свою дурость!
Тогда бригадир встал перед миром на колени и начал каяться. («И было то покаяние его аспидово», – опять предваряет события летописец.)
– Простите меня, ради Христа, атаманы-молодцы! – говорил он, кланяясь миру в ноги, – оставляю я мою дурость на веки вечные, и сам вам тоё мою дурость с рук на руки сдам! только не наругайтесь вы над нею, ради Христа, а проводите честь честью к стрельцам в слободу!
И, сказав это, вывел Домашку к толпе. Увидели глуповцы разбитную стрельчиху и животами охнули. Стояла она перед ними, та же немытая, нечесаная, как прежде была; стояла, и хмельная улыбка бродила по лицу ее. И стала им эта Домашка так люба, так люба, что и сказать невозможно.
– Здорово живешь, Домаха! – гаркнули в один голос граждане.
– Здравствуйте! Ослобонять пришли? – отвечала Домашка.
– Охотой идешь в опчество?
– Со всем моим великим удовольствием!
Тогда Домашку взяли под руки и привели к тому самому анбару, откуда она была, за несколько времени перед тем, уведена силою.
Стрельцы радовались, бегали по улицам, били в тазы и в сковороды и выкрикивали свой обычный воинственный клич:
– Посрамихом! посрамихом!
И начались тут промеж глуповцев радость и бодренье великое. Все чувствовали, что тяжесть спала с сердец и что отныне ничего другого не остается, как благоденствовать. С бригадиром во главе двинулись граждане навстречу пожару, в несколько часов сломали целую улицу домов и окопали пожарище со стороны города глубокою канавой. На другой день пожар уничтожился сам собою, вследствие недостатка питания.
Но летописец недаром предварял события намеками: слезы бригадировы действительно оказались крокодиловыми, и покаяние его было покаяние аспидово. Как только миновала опасность, он засел у себя в кабинете и начал рапортовать во все места. Десять часов сряду макал он перо в чернильницу, и чем дальше макал, тем больше становилось оно ядовитым.
«Сего 10-го июля, – писал он, – от всех вообще глуповских граждан последовал против меня великий бунт. По случаю бывшего в слободе Негоднице великого пожара собрались ко мне, бригадиру, на двор всякого звания люди и стали меня нудить и на коленки становить, дабы я перед теми бездельными людьми прощение принес. Я же без страха от сего уклонился. И теперь рассуждаю так: ежели таковому их бездельничеству потворство сделать, да и впредь потрафлять, то как бы оное не явилось повторительным, и не гораздо к утишению способным?»
Отписав таким образом, бригадир сел у окошечка и стал поджидать, не послышится ли откуда: ту-ру! ту-ру! Но в то же время с гражданами был приветлив и обходителен, так что даже едва совсем не обворожил их своими ласками.
– Миленькие вы, миленькие! – говорил он им, – ну, чего вы, глупенькие, на меня рассердились! Ну, взял Бог – ну, и опять даст Бог! У него, у Царя Небесного, милостей много! Так-то, братики-сударики!
По временам, однако ж, на лице его показывалась какая-то сомнительная улыбка, которая не предвещала ничего доброго…
И вот, в одно прекрасное утро, по дороге показалось облако пыли, которое, постепенно приближаясь и приближаясь, подошло, наконец, к самому Глупову.
– Ту-ру! ту-ру! – явственно раздалось из внутренностей таинственного облака.
Трубят в рога!Разить врагаДругим пора!Глуповцы оцепенели.
Фантастический путешественник
Едва успели глуповцы поправиться, как бригадирово легкомыслие чуть-чуть не навлекло на них новой беды.
Фердыщенко вздумал путешествовать.
Это намерение было очень странное, ибо в заведовании Фердыщенка находился только городской выгон, который не заключал в себе никаких сокровищ ни на поверхности земли, ни в недрах оной. В разных местах его валялись, конечно, навозные кучи, но они, даже в археологическом отношении, ничего примечательного не представляли. «Куда и с какою целью тут путешествовать?» Все благоразумные люди задавали себе этот вопрос, но удовлетворительно разрешить не могли. Даже бригадирова экономка – и та пришла в большое смущение, когда Фердыщенко объявил ей о своем намерении.
– Ну, куда тебя слоняться несет? – говорила она, – на первую кучу наткнешься и завязнешь! Кинь ты свое озорство, Христа ради!
Но бригадир был непоколебим. Он вообразил себе, что травы сделаются зеленее и цветы расцветут ярче, как только он выедет на выгон. «Утучнятся поля, прольются многоводные реки, поплывут суда, процветет скотоводство, объявятся пути сообщения», – бормотал он про себя и лелеял свой план пуще зеницы ока. «Прост он был, – поясняет летописец, – так прост, что даже после стольких бедствий простоты своей не оставил».
Очевидно, он копировал в этом случае своего патрона и благодетеля, который тоже был охотник до разъездов (по краткой описи градоначальникам, Фердыщенко обозначен так: бывый денщик князя Потемкина) и любил, чтоб его везде чествовали.
План был начертан обширный. Сначала направиться в один угол выгона; потом, перерезав его площадь поперек, нагрянуть в другой конец; потом очутиться в середине, потом ехать опять по прямому направлению, а затем уже куда глаза глядят. Везде принимать поздравления и дары.
– Вы смотрите! – говорил он обывателям, – как только меня завидите, так сейчас в тазы бейте, а потом зачинайте поздравлять, как будто я и невесть откуда приехал!
– Слушаем, батюшка Петр Петрович! – говорили проученные глуповцы; но про себя думали: «Господи! того гляди, опять город спалит!»
Выехал он в самый Николин день, сейчас после ранних обеден, и дома сказал, что будет не скоро. С ним был денщик Василий Черноступ да два инвалидных солдата. Шагом направился этот поезд в правый угол выгона, но так как расстояние было близкое, то как ни медлили, а через полчаса поспели. Ожидавшие тут глуповцы, в числе четырех человек, ударили в тазы, а один потрясал бубном. Потом начали подносить дары: подали тёшку осетровую соленую, да севрюжку провесную среднюю, да кусок ветчины. Вышел бригадир из брички и стал спорить, что даров мало, «да и дары те не настоящие, а лежалые», и служат к умалению его чести. Тогда вынули глуповцы еще по полтиннику, и бригадир успокоился.
– Ну, теперь показывайте мне, старички, – сказал он ласково, – каковы у вас есть достопримечательности?
Стали ходить взад и вперед по выгону, но ничего достопримечательного не нашли, кроме одной навозной кучи.
– Это в прошлом году, как мы лагерем во время пожара стояли, так в ту пору всякого скота тут довольно было! – объяснил один из стариков.
– Хорошо бы здесь город поставить, – молвил бригадир, – и назвать его Домнославом, в честь той стрельчихи, которую вы занапрасно в то время обеспокоили!
И потом прибавил:
– Ну, а в недрах земли как?
– Об этом мы неизвестны, – отвечали глуповцы, – думаем, что много всего должно быть, однако допытываться боимся, как бы кто не увидал да начальству не пересказал!
– Боитесь?! – усмехнулся бригадир.
Словом сказать, в полчаса, да и то без нужды, весь осмотр кончился. Видит бригадир, что времени остается много (отбытие с этого пункта было назначено только на другой день), и зачал тужить и корить глуповцев, что нет у них ни мореходства, ни судоходства, ни горного и монетного промыслов, ни путей сообщения, ни даже статистики – ничего, чем бы начальниково сердце возвеселить. А главное, нет предприимчивости.
– Вам бы следовало корабли заводить, кофей-сахар развозить, – сказал он, – а вы что!
Переглянулись между собой старики, видят, что бригадир как будто и к слову, а как будто и не к слову свою речь говорит, помялись на месте и вынули еще по полтиннику.
– На этом спасибо, – молвил бригадир, – а что про мореходство сказалось, на том простите!
Выступил тут вперед один из граждан и, желая подслужиться, сказал, что припасена у него за пазухой деревянного дела пушечка малая на колесцах и гороху сушеного запасец небольшой. Обрадовался бригадир этой забаве несказанно, сел на лужок и начал из пушечки стрелять. Стреляли долго, даже умучились, а до обеда все еще много времени остается.
– Ах, прах те побери! Здесь и солнце-то словно назад пятится! – сказал бригадир, с негодованием поглядывая на небесное светило, медленно выплывавшее по направлению к зениту.
Наконец, однако, сели обедать, но так как со времени стрельчихи Домашки бригадир стал запивать, то и тут напился до безобразия. Стал говорить неподобные речи и, указывая на «деревянного дела пушечку», угрожал всех своих амфитрионов перепалить. Тогда за хозяев вступился денщик, Василий Черноступ, который хотя тоже был пьян, но не гораздо.
– Пустое ты дело затеял! – сразу оборвал он бригадира, – кабы не я, твой приставник, – слова бы тебе, гунявому, не пикнуть, а не то чтоб за экое орудие взяться!
Время между тем продолжало тянуться с безнадежною вялостью. Обедали-обедали, пили-пили, а солнце все высоко стоит. Начали спать. Спали-спали, весь хмель переспали, наконец начали вставать.
– Никак солнце-то высоко взошло! – сказал бригадир, просыпаясь и принимая запад за восток.
Но ошибка была столь очевидна, что даже он понял ее. Послали одного из стрельцов в Глупов за квасом, думая ожиданием сократить время; но старик оборотил духом и принес на голове целый жбан, не пролив ни капли. Сначала пили квас, потом чай, потом водку. Наконец, чуть смерклось, зажгли плошку и осветили навозную кучу. Плошка коптела, мигала и распространяла смрад.
– Слава Богу! не видали, как и день кончился! – сказал бригадир и, завернувшись в шинель, улегся спать во второй раз.
На другой день поехали наперерез и, по счастью, встретили по дороге пастуха. Стали его спрашивать, кто он таков и зачем по пустым местам шатается, и нет ли в том шатании умысла. Пастух сначала оробел, но потом во всем повинился. Тогда его обыскали и нашли хлеба ломоть небольшой да лоскуток от онуч.
– Сказывай, в чем был твой умысел? – допрашивал бригадир с пристрастием.
Но пастух на все вопросы отвечал мычанием, так что путешественники вынуждены были, для дальнейших расспросов, взять его с собою, и в таком виде приехали в другой угол выгона.
Тут тоже в тазы звонили и дары дарили, но время пошло поживее, потому что допрашивали пастуха, и в него грешным делом из малой пушечки стреляли. Вечером опять зажгли плошку и начадили так, что у всех разболелись головы.
На третий день, отпустив пастуха, отправились в середку, но тут ожидало бригадира уже настоящее торжество. Слава о его путешествиях росла не по дням, а по часам, и так как день был праздничный, то глуповцы решились ознаменовать его чем-нибудь особенным. Одевшись в лучшие одежды, они выстроились в каре и ожидали своего начальника. Стучали в тазы, потрясали бубнами, и даже играла одна скрипка. В стороне дымились котлы, в которых варилось и жарилось такое количество поросят, гусей и прочей живности, что даже попам стало завидно. В первый раз бригадир понял, что любовь народная есть сила, заключающая в себе нечто съедобное. Он вышел из брички и прослезился.
Плакали тут все, плакали и потому, что жалко, и потому, что радостно. В особенности разливалась одна древняя старуха (сказывали, что она была внучка побочной дочери Марфы Посадницы).
– О чем ты, старушка, плачешь? – спросил бригадир, ласково трепля ее по плечу.
– Ох ты наш батюшка! как нам не плакать-то, кормилец ты наш! век мы свой всё-то плачем… всё плачем! – всхлипывала в ответ старуха.
В полдень поставили столы и стали обедать; но бригадир был так неосторожен, что еще перед закуской пропустил три чарки очищенной. Глаза его вдруг сделались неподвижными и стали смотреть в одно место. Затем, съевши первую перемену (были щи с солониной), он опять выпил два стакана и начал говорить, что ему нужно бежать.
– Ну, куда тебе без ума бежать? – урезонивали его почетные глуповцы, сидевшие по сторонам.
– Куда глаза глядят! – бормотал он, очевидно, припоминая эти слова из своего маршрута.
После второй перемены (был поросенок в сметане) ему сделалось дурно; однако он превозмог себя и съел еще гуся с капустою. После этого ему перекосило рот.
Видно было, как вздрогнула на лице его какая-то административная жилка, дрожала-дрожала и вдруг замерла… Глуповцы в смятении и испуге повскакали с своих мест.
Кончилось…
Кончилось достославное градоначальство, омрачившееся в последние годы двукратным вразумлением глуповцев. «Была ли в сих вразумлениях необходимость?» – спрашивает себя летописец и, к сожалению, оставляет этот вопрос без ответа.
На некоторое время глуповцы погрузились в ожидание. Они боялись, чтоб их не завинили в преднамеренном окормлении бригадира и чтоб опять не раздалось неведомо откуда: «туру-туру!»
Встаньте гуще!Чтобы пущеПобеждать врага!К счастью, однако ж, на этот раз опасения оказались неосновательными. Через неделю прибыл из губернии новый градоначальник и превосходством принятых им административных мер заставил забыть всех старых градоначальников, в том числе и Фердыщенку. Это был Василиск Семенович Бородавкин, с которого, собственно, и начинается золотой век Глупова. Страхи рассеялись, урожаи пошли за урожаями, комет не появлялось, а денег развелось такое множество, что даже куры не клевали их… Потому что это были ассигнации.
Войны за просвещение
Василиск Семенович Бородавкин, сменивший бригадира Фердыщенку, представлял совершенную противоположность своему предместнику. Насколько последний был распущен и рыхл, настолько же первый поражал расторопностью и какою-то неслыханной административной въедчивостью, которая с особенной энергией проявлялась в вопросах, касавшихся выеденного яйца. Постоянно застегнутый на все пуговицы и имея наготове фуражку и перчатки, он представлял собой тип градоначальника, у которого ноги во всякое время готовы бежать неведомо куда. Днем он, как муха, мелькал по городу, наблюдая, чтоб обыватели имели бодрый и веселый вид; ночью – тушил пожары, делал фальшивые тревоги и вообще заставал врасплох.
Кричал он во всякое время, и кричал необыкновенно. «Столько вмещал он в себе крику, – говорит по этому поводу летописец, – что от оного многие глуповцы и за себя, и за детей навсегда испугались». Свидетельство замечательное и находящее себе подтверждение в том, что впоследствии начальство вынуждено было дать глуповцам разные льготы, именно «испуга их ради». Аппетит имел хороший, но насыщался с поспешностью и при этом роптал. Даже спал только одним глазом, что приводило в немалое смущение его жену, которая, несмотря на двадцатипятилетнее сожительство, не могла без содрогания видеть его другое, недремлющее, совершенно круглое и любопытно на нее устремленное око. Когда же совсем нечего было делать, то есть не предстояло надобности ни мелькать, ни заставать врасплох (в жизни самых расторопных администраторов встречаются такие тяжкие минуты), то он или издавал законы, или маршировал по кабинету, наблюдая за игрой сапожного носка, или возобновлял в своей памяти военные сигналы.
Была и еще одна особенность за Бородавкиным: он был сочинитель. За десять лет до прибытия в Глупов он начал писать проект «о вящем армии и флотов по всему лицу распространении, дабы через то возвращение (sic) древней Византии под сень Российский державы уповательным учинить», и каждый день прибавлял к нему по одной строчке. Таким образом составилась довольно объемистая тетрадь, заключавшая в себе три тысячи шестьсот пятьдесят две строчки (два года было високосных), на которую он не без гордости указывал посетителям, прибавляя при том:
– Вот, государь мой, сколь далеко я виды свои простираю!
Вообще, политическая мечтательность была в то время в большом ходу, а потому и Бородавкин не избегнул общих веяний времени. Очень часто видали глуповцы, как он, сидя на балконе градоначальнического дома, взирал оттуда, с полными слез глазами, на синеющие вдалеке византийские твердыни. Выгонные земли Византии и Глупова были до такой степени смежны, что византийские стада почти постоянно смешивались с глуповскими, и из этого выходили беспрестанные пререкания. Казалось, стоило только кликнуть клич… И Бородавкин ждал этого клича, ждал с страстностью, с нетерпением, доходившим почти до негодования.
– Сперва с Византией покончим-с, – мечтал он, – а потом-с…
На Драву, Мораву, на дальнюю Саву,На тихий и синий Дунай…Д-да-с!
Сказать ли всю истину: по секрету, он даже заготовил на имя известного нашего географа, К. И. Арсеньева, довольно странную резолюцию: «Предоставляется вашему благородию, – писал он, – на будущее время известную вам Византию во всех учебниках географии числить тако: Константинополь, бывшая Византия, а ныне губернский город Екатериноград, стоит при излиянии Черного моря в древнюю Пропонтиду и под сень Российской державы приобретен в 17.. году, с распространением на оный единства касс (единство сие в том состоит, что византийские деньги в столичном городе Санкт-Петербурге употребление себе находить должны). По обширности своей город сей, в административном отношении, находится в ведении четырех градоначальников, кои состоят между собой в непрерывном пререкании. Производит торговлю грецкими орехами и имеет один мыловаренный и два кожевенных завода». Но, увы! дни проходили за днями, мечты Бородавкина росли, а клича все не было. Проходили через Глупов войска пешие, проходили войска конные.
– Куда, голубчики? – с волнением спрашивал Бородавкин солдатиков.
Но солдатики в трубы трубили, песни пели, носками сапогов играли, пыль столбом на улицах поднимали, и всё проходили, всё проходили.
– Валом валит солдат! – говорили глуповцы, и казалось им, что это люди какие-то особенные, что они самой природой созданы для того, чтоб ходить без конца, ходить по всем направлениям. Что они спускаются с одной плоской возвышенности для того, чтобы лезть на другую плоскую возвышенность, переходят через один мост для того, чтобы перейти вслед за тем через другой мост. И еще мост, и еще плоская возвышенность, и еще, и еще…
В этой крайности Бородавкин понял, что для политических предприятий время еще не наступило и что ему следует ограничить свои задачи только так называемыми насущными потребностями края. В числе этих потребностей первое место занимала, конечно, цивилизация, или, как он сам определял это слово, «наука о том, колико каждому Российской Империи доблестному сыну отечества быть твердым в бедствиях надлежит».
Полный этих смутных мечтаний, он явился в Глупов и прежде всего подвергнул строгому рассмотрению намерения и деяния своих предшественников. Но когда он взглянул на скрижали, то так и ахнул. Вереницею прошли перед ним: и Клементий, и Великанов, и Ламврокакис, и Баклан, и маркиз де Санглот, и Фердыщенко, но что делали эти люди, о чем они думали, какие задачи преследовали – вот этого-то именно и нельзя было определить ни под каким видом. Казалось, что весь этот ряд – не что иное, как сонное мечтание, в котором мелькают образы без лиц, в котором звенят какие-то смутные крики, похожие на отдаленное галденье захмелевшей толпы… Вот вышла из мрака одна тень, хлопнула: раз-раз! – и исчезла неведомо куда; смотришь, на место ее выступает уж другая тень, и тоже хлопает как попало, и исчезает… «Раззорю!», «не потерплю!» слышится со всех сторон, а что разорю, чего не потерплю – того разобрать невозможно. Рад бы посторониться, прижаться к углу, но ни посторониться, ни прижаться нельзя, потому что из всякого угла раздается все то же «раззорю!», которое гонит укрывающегося в другой угол и там, в свою очередь, опять настигает его. Это была какая-то дикая энергия, лишенная всякого содержания, так что даже Бородавкин, несмотря на свою расторопность, несколько усомнился в достоинстве ее. Один только штатский советник Двоекуров с выгодою выделялся из этой пестрой толпы администраторов, являл ум тонкий и проницательный и вообще выказывал себя продолжателем того преобразовательного дела, которым ознаменовалось начало восемнадцатого столетия в России. Его-то, конечно, и взял себе Бородавкин за образец.
Двоекуров совершил очень много. Он вымостил улицы: Дворянскую и Большую, собрал недоимки, покровительствовал наукам и ходатайствовал об учреждении в Глупове академии. Но главная его заслуга состояла в том, что он ввел в употребление горчицу и лавровый лист. Это последнее действие до того поразило Бородавкина, что он тотчас же возымел дерзкую мысль поступить точно таким же образом и относительно прованского масла. Начались справки, какие меры были употреблены Двоекуровым, чтобы достигнуть успеха в затеянном деле, но так как архивные дела, по обыкновению, оказались сгоревшими (а быть может, и умышленно уничтоженными), то пришлось удовольствоваться изустными преданиями и рассказами.
– Много у нас всякого шуму было! – рассказывали старожилы, – и через солдат секли, и запросто секли… Многие даже в Сибирь через это самое дело ушли!
– Стало быть, были бунты? – спрашивал Бородавкин.
– Мало ли было бунтов! У нас, сударь, насчет этого такая примета: коли секут – так уж и знаешь, что бунт!
Из дальнейших расспросов оказывалось, что Двоекуров был человек настойчивый и, однажды задумав какое-нибудь предприятие, доводил его до конца. Действовал он всегда большими массами, то есть и усмирял, и расточал без остатка; но в то же время понимал, что одного этого средства недостаточно. Поэтому, независимо от мер общих, он, в течение нескольких лет сряду, непрерывно и неустанно делал сепаратные набеги на обывательские дома и усмирял каждого обывателя поодиночке. Вообще во всей истории Глупова поражает один факт: сегодня расточат глуповцев и уничтожат их всех до единого, а завтра, смотришь, опять появятся глуповцы и даже, по обычаю, выступят вперед на сходках так называемые «старики» (должно быть, «из молодых да ранние»). Каким образом они нарастали – это была тайна, но тайну эту отлично постиг Двоекуров, и потому розог не жалел. Как истинный администратор, он различал два сорта сечения: сечение без рассмотрения и сечение с рассмотрением, и гордился тем, что первый в ряду градоначальников ввел сечение с рассмотрением, тогда как все предшественники секли как попало, и часто даже совсем не тех, кого следовало. И действительно, воздействуя разумно и беспрерывно, он добился результатов самых блестящих. В течение всего его градоначальничества глуповцы не только не садились за стол без горчицы, но даже развели у себя довольно обширные горчичные плантации для удовлетворения требованиям внешней торговли. «И процвела оная весь, яко крин сельный, посылая сей горький продукт в отдаленнейшие места державы Российской и получая взамен оного драгоценные металлы и меха».
Но в 1770 году Двоекуров умер, и два градоначальника, последовавшие за ним, не только не поддержали его преобразований, но даже, так сказать, загадили их. И что всего замечательнее, глуповцы явились неблагодарными. Они нимало не печалились упразднению начальственной цивилизации и даже как будто радовались. Горчицу перестали есть вовсе, а плантации перепахали, засадили капустою и засеяли горохом. Одним словом, произошло то, что всегда случается, когда просвещение слишком рано приходит к народам младенческим и в гражданском смысле незрелым. Даже летописец не без иронии упоминает об этом обстоятельстве: «Много лет выводил он (Двоекуров) хитроумное сие здание, а о том не догадался, что строит на песце». Но летописец, очевидно, и в свою очередь, забывает, что в том-то собственно и заключается замысловатость человеческих действий, чтобы сегодня одно здание на «песце» строить, а завтра, когда оно рухнет, зачинать новое здание на том же «песце» воздвигать.
Таким образом, оказывалось, что Бородавкин поспел как раз кстати, чтобы спасти погибавшую цивилизацию. Страсть строить на «песце» была доведена в нем почти до исступления. Дни и ночи он все выдумывал, что бы такое выстроить, чтобы оно вдруг, по выстройке, грохнулось и наполнило вселенную пылью и мусором. И так думал, и этак, но настоящим манером додуматься все-таки не мог. Наконец, за недостатком оригинальных мыслей, остановился на том, что буквально пошел по стопам своего знаменитого предшественника.