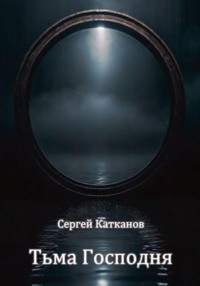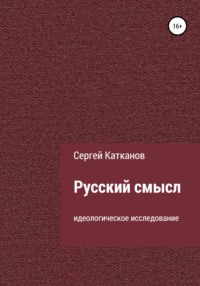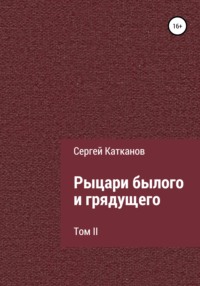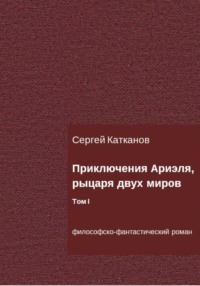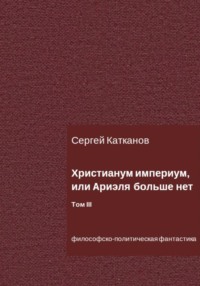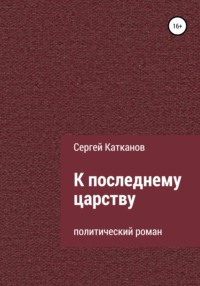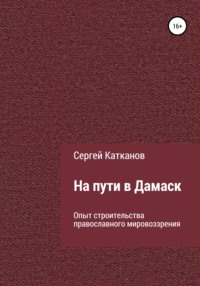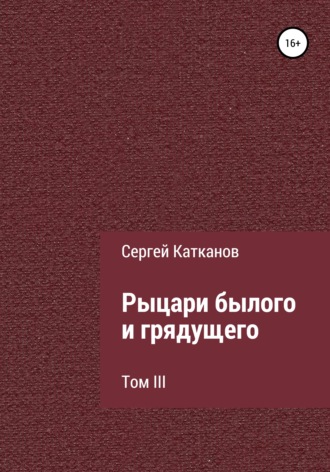 полная версия
полная версияРыцари былого и грядущего. III том
Вскоре наблюдатели, не менее таинственные, чем сам незнакомец, пришли к единственному возможному выводу: его поведение носит характер демонстративный, он вполне сознательно загадывает кому-то загадку. Теперь уже не осталось сомнений в том, что он хочет контакта, но не пытается выйти на контакт. Грамотно. Пожалуй, даже слишком грамотно. Он намеренно демонстрирует профессионализм.
Тогда слежку за ним сделали так же демонстративной. Теперь два человека европейской внешности всегда следовали за ним на почтительном расстоянии, нарочито не глядя в его сторону. И он так же нарочито их не замечал. Через неделю обе стороны вполне осознали, что ведут диалог, их взаимный интерес больше не вызывал никаких сомнений. Пришло время задавать вопросы, простые и понятные.
Однажды поутру, когда джентльмен точно по расписанию появился в Бета Георгиас, вместо двух уже знакомых ему «топтунов» он увидел совсем другого европейца, явно рангом повыше. Тот подошёл к джентльмену и без предисловий спросил по-английски:
– Что вам угодно?
– Мне нужен некий русский. Его зовут Андрей Сиверцев.
– Вы уверены, что он в Лалибеле? – неожиданно по-русски спросил европеец.
– Ни секунды в этом не сомневаюсь, – так же по-русски ответил джентльмен, не изменившись в лице.
Они молча, , сухо друг другу кивнули и пошли в разные стороны. С этого дня джентльмен перестал посещать храмы и неделю безвылазно просидел в номере отеля.
***
В командоре секретной службы Ордена Храма сейчас уже невозможно было узнать Сашку – рядового афганской войны, который много лет назад вместе с майором КГБ Князевым куда-то исчез. Сейчас Александр, уже несколько лет занимавший должность своего покойного учителя, неторопливыми шагами мерил свой рабочий кабинет. Белый плащ с красным крестом ему очень шёл. Густую бороду он стриг так же аккуратно, как и Князев, впрочем, на этом сходство между ними заканчивалось. У Князева была школа КГБ, Саша обучался премудростям разведки и контрразведки уже в Ордене. В нём никогда не было той дружелюбной и непринуждённой открытости, которая отличала его учителя. Школа «Секретум Темпли» – подземная школа.
Сиверцев не раз думал об этом, глядя на Александра. Дружбы между ними так и не получилось, да они к этому и не стремились. В жизни каждого из них Князев сыграл решающую роль, и в памяти каждого из них Князев стоял на первом месте, но именно поэтому они никогда не говорили о покойном командоре. Общались только по делу, а общие дела у них появлялись редко. И уж если сегодня командор секретной службы позвал к себе Сиверцева, значит никак не смог без этого обойтись.
– Андрей, тебя разыскивает некий русский господин. Судя по всему – профессионал.
– Судя по всему? Вы не смогли его «пробить»?
– Не смогли. Ни в одной базе ничего нет. И это только подтверждает наши предположения. Профессионал очень высокого уровня.
– Как думаешь, зачем я ему нужен?
– Это просто. Через тебя он хочет выйти на Орден.
– Значит, я с ним знаком?
– Разумеется. И про «Секретум Темпли» он тоже что-то знает.
– Задача ясна. Узнать, что ему известно, и зачем ему нужен Орден.
Командор молча кивнул.
– Где он сейчас?
– В «Царице Савской» клопов давит уже 2 месяца. Андрей… – Александр о чём-то задумался, но помолчав, резюмировал: – Ладно, действуй по обстоятельствам.
***
Сиверцев пошёл в «Царицу Савскую» только через три дня. Всё это время он терпеливо просеивал информацию по периоду, предшествовавшему его отправке из Союза в Эфиопию. Сюжеты, разговоры, лица. Пытался вытянуть ту ниточку, которая, как выяснилось, не оборвалась до сих пор. Наконец, ему это удалось. Когда он взялся за ручку двери номера отеля, он уже знал, кого он увидит за этой дверью. И не ошибся.
– Здравствуйте, гражданин полковник, – язвительно усмехнулся Сиверцев.
– Здравствуй, Андрей, – просто и дружелюбно сказал респектабельный джентльмен. – Проходи. Меня, кстати, зовут Георгий Владимирович.
Сиверцев неторопливо прошёл, лениво уселся на стул и так же язвительно процедил сквозь зубы:
– О чём хотел говорить со мной Георгий Владимирович?
– О многом. В основном – о жизни, – виновато улыбнулся полковник. – У меня есть бутылка дешёвого русского портвейна «Кавказ». Не забыл?
– Я ничего не забыл, гражданин полковник.
Георгий Владимирович подошёл к холодильнику, достал бутылку «Кавказа», срезал ножом пластмассовую пробку и разлил по стаканам весьма вонючую бордовую жидкость.
– Эту бутылку я тащил сюда через семь границ. Специально ради встречи с тобой.
– А я тут на французский коньячок подсел.
– Но дешёвкой-то не побрезгуешь?
Сиверцев опять хотел что-нибудь съязвить, но не стал и, взяв стакан портвейна, просто сказал:
– За встречу, Георгий Владимирович.
– За встречу, Андрюша.
Выпив, помолчали. Андрей ждал, полковник не торопился. Этот невозмутимый человек теперь откровенно нервничал и даже не пытался это скрывать. Он начал с трудом:
– Ты, наверное, не в курсе, что тогда попал в Эфиопию только благодаря мне?
– Ну вот теперь в курсе, – Андрей выжидательно посмотрел на полковника.
– Да… Вопрос, зачем мне это было надо? Объясню. Я вычислил тамплиеров давно и был уверен, что Орден Храма – в Эфиопии. По двум причинам, если не вдаваться в детали. Первая – Орден не мог умереть, вторая – больше ему негде быть.
– Значит, ГРУ давно уже сидит у нас на хвосте?
– Нет. В поле зрения ГРУ Орден Храма ни разу не попал. Перед военной разведкой вообще не стоит таких задач, решая которые мы могли бы выйти на тамплиеров. К тому же, я несколько лет в отставке, и сейчас ты разговариваешь с частным лицом.
– Кажется, сейчас, по сценарию нашей встречи, я должен вздохнуть с облегчением? – Андрей улыбнулся уже довольно добродушно.
– Разумеется, – в тон ответил Георгий Владимирович. – не нужны тебе дела с Российской военной разведкой, а с безобидным старичком почему бы и не поболтать? Так вот я вычислил тамплиеров без опор на оперативную информацию Службы, анализируя исключительно историческую информацию, причём из чисто личного интереса, в порядке хобби, так сказать. И это стало для меня чем-то очень важным, важнее, чем Служба, потом объясню почему. Короче, я захотел выйти на Орден. Но как? Все мои передвижения тогда столь тщательно отслеживали свои, что сунься я сюда и притащил бы на хвосте всю Службу. Сюда должен был отправиться другой человек, не имеющий отношения к Службе, хотя никакого задания я ему не мог дать по понятным, надеюсь, причинам. И вот, просматривая твоё личное дело, даже по сухим официальным справкам я почувствовал, что ты совершенно не похож на других советских офицеров. Пробил кой-какую информацию и убедился: юный рыцарь-идеалист. Очень редкий психотип в наше время. Я почувствовал, что если ты окажешься в Эфиопии, то рано или поздно пересечёшься с Орденом, а я потом смогу пройти по твоему следу и так же выйти на Орден.
– Тронут. Тронут до слёз. Или это дешёвый портвейн так на меня подействовал?
– Неужели я действительно так сильно обидел тебя тогда своим высокомерием?
– Обидел, конечно, хотя дело не в этом. Все обиды – в прошлом, но в прошлом – не только обиды. Неужели не понятно, что вы для меня – тень советского мира. Нерадостная тень нерадостного мира. С чего я должен быть рад нашей встрече?
– А ты не думаешь, товарищ капитан, что для кого-то, с кем ты не виделся 12 лет, ты тоже – тень советского мира? К тебе сейчас обращаются «мессир», ведь так? И вдруг неожиданно при встрече кто-то назовёт тебя «товарищ капитан». Тебе это, наверное, покажется не только странным, но даже и противоестественным. Ведь ты же рыцарь. Но это у тебя на лбу не написано. Это в душе. А откуда ты знаешь, что у меня в душе?
– Да… Простите, Георгий Владимирович.
– Не вопрос. Так вот тебя не хотели отправлять в Эфиопию. «Десятке» ты не понравился именно теми своими качествами, которыми так привлёк меня – самостоятельно мыслящий, любознательный, с хорошим кругозором, с представлениями о чести. Из такого человека очень трудно сделать хорошего солдата. Рыцари строем не ходят. Но я настоял, чтобы тебя отправили сюда. Я был уверен, что эти твои качества привлекут не только моё внимание. И вот я узнаю, что ты пропал без вести. Начинаю пробивать эту тему и выясняю, что некие неустановленные личности, похоже, эвакуировали тебя в Лалибелу. А дальше уже дело техники. В течение двух лет твой фейс в Лалибеле срисовывали несколько раз.
– Значит, вы всё-таки припахали к этому делу оперативные возможности Службы?
– Ну да, злоупотребил немножко служебным положением. Впрочем, в ущерб интересам Службы не действовал. И в ущерб интересам Ордена – так же. Агентура срисовала здесь тебя, а не Орден. Информацию получил только я. Потом я эту тему законсервировал. Вышел в отставку, несколько лет не дёргался. И вот я здесь.
– Георгий Владимирович, даже я, сапог армейский, понимаю, что полагаться на вашу отставку было бы очень наивно. Может быть, мне рассказать вам, как плотно Служба опекает своих отставников?
– Можешь не рассказывать, – полковник искренне рассмеялся. – Андрюша, из Москвы я улетел в Австралию. В Австралии я ушёл в джунгли и не вернулся. Исчез вообще для всех. У профессионала моего уровня всегда есть возможности, о которых родная Служба не знает. Из джунглей контрабандисты нелегально переправили меня в ЮАР. Там обзавёлся британским паспортом. Настоящий паспорт, никакая не подделка. И вот из ЮАР (заметь – сушей!) я полгода добирался до Эфиопии. Все ниточки оборваны с избыточным даже усердием.
– Наши всё равно никогда не поверят в то, что вы действительно – частное лицо.
– Ну а ты-то мне на что?
– Вот именно, на что? В чём я должен убедить братьев? Зачем вам Орден, Георгий Владимирович?
– Я хочу умереть тамплиером. И до смерти надеюсь ещё послужить Ордену Храма.
– Радикальное заявление.
– Андрюша, не забывай, что я тебя лет на 20 старше. Прояви хотя бы минимальное уважение к возрасту, и тогда я сам охотно забуду о том, что в отцы тебе гожусь.
Сиверцев молча, виновато кивнул.
– Ты знаешь, Андрей, я ведь хотел исповедаться перед тобой, – лицо полковника преобразилось, с него совершенно исчезло обычное высокомерно-брезгливое выражение и появилось что-то мальчишеское или даже монашеское. – Ты знаешь, что такое Служба?
– Резуна читал.
– Да, в его книге много правды. А ты знаешь, почему Резун стал предателем? Служба сдала его, он в ответ сдал Службу, чтобы спасти свою шкуру. Ему было не за что умирать. А если сверхчеловеку не за что умирать, он превращается в чудовище. Я ведь хорошо знал Володю. Блестяще одарённый человек, очень сильный, чрезвычайно самостоятельный. Больше всего мне нравилось в нём то, что он органически не выносил никакой лжи. А ложь была кругом и во всём. В истории, полностью фальсифицированной, в наших идеалах, в которые мы не верили. Ложь была в том, что «мы – самые крутые». Что крутого в том, чтобы быть тупым бездушным инструментом абсурдной политики, полностью построенной на лжи? Ложь была в каждом приказе, который мы получали. Ложь была в каждой вербовке, которую мы проводили. Мы вдыхали ложь и выдыхали ложь.
Когда Володя переметнулся к британцам, во мне что-то сломалось, я потерял нравственную опору. С одной стороны, предательству не было и не могло быть никакого оправдания, он ведь пустил псу под хвост многолетний труд большого количества своих сослуживцев. Но с другой стороны… он не захотел сохранять верность лжи, которой все мы дышали. Россия была предана в 1917 году, и всё, что выросло из этого предательства – само по себе предательство от начала и до конца. А все вокруг вопили: «Резун – предатель». Как будто Служба – это Бог, которому надо хранить верность до последнего издыхания. Мы хранили верность Службе, верность братству суперменов, потому что больше у нас ничего не было. Володя предал братство, это было трудно перенести. Но ведь любой человек с мозгами и с душой прекрасно понимал, что наше братство – блестящий инструмент в руках у лживых маразматиков – предателей по самой своей сути. Надо было отключить свои мозги, усыпить свою душу, чтобы не понимать, что мы служили химере. Мы ничему в общем-то не служили и значит ничего не могли предать. Ведь никто их нас в коммунизм не верил.
Потом я читал Володины книги, одну за другой, блестящие книги. Мне стало понятно, что он загнал себя в полный кромешный тупик. Та правда, на которой он так настаивал, была столь же условна и относительна, как и наша советская ложь. Правда Резуна не выводила к свету, она вообще ни к чему не выводила, ни к какой Высшей Истине. В его правде не было ничего абсолютного, да он, как честный человек, никогда и не пытался это утверждать, никому не указывал пути и вообще ни к чему не призывал. И чем тогда его правда была лучше любой лжи?
Если человек не переносит ложь, он отрицает, а ведь надо же ещё и утверждать, а утверждать-то всем нам было совершенно нечего. Ни у кого из нас не было вообще никаких положительных идеалов. Мы прикладывали нечеловеческие усилия, чтобы сформировать уникальные навыки, мы рвали жилы, не знали ни дня, ни ночи, шли на любые страдания, совершали невозможное, не щадили жизни, и всё это во имя чего? Мы не только не знали этого, мы вообще об этом не задумывались. На смену коммунистической лжи пришла демократическая ложь, в Службе на это никто внимания не обратил. Мы делали то же, что и всегда. Энтузиасты хорошей работы, ни на что положительное по существу не направленной.
– Вы отстаивали национальные интересы.
– Не хочу даже объяснять, какая это химера. Для ясности готов предположить, что национальные интересы – нечто вполне реальное и даже не имеющее отношения ни к демократической, ни к коммунистической лжи. Вот, скажем, нашим национальным интересам соответствует создание государства Израиль, и мы вкладываем огромные усилия в его создание. Почти сразу же оказывается, что политика Израиля противоречит нашим национальным интересам, и мы начинаем вкладывать ещё большие усилия в поддержку врагов Израиля. Мы забиваем немереные ресурсы в поддержку Египта, но вскоре уже мы вынуждены совершать подвиги в противостоянии антироссийской политике Египта. Во имя национальных интересов мы создаём десятки тысяч танков, а потом во имя национальных интересов режем их на металлолом. Дело даже не в том, что сначала мы ошибались, а потом исправляли свои ошибки. Предположим, мы никогда не ошибались, а просто мудро изменяли свою политику в соответствии с изменившейся ситуацией. И в этом случае приходится признать, что мы служим чему-то условному, относительному, не имеющему абсолютной, непреходящей ценности. На любое из наших достижений в любой момент можно посмотреть, как на нечто крайне вредное. Мы отдаём жизни в борьбе со злом, которое завтра будет объявлено добром, во имя добра, которое завтра будет объявлено злом. Тут всё есть добро, и всё есть зло. А это значит, что высшей правды тут нет. И я устал служить тому, чего нет. Устал быть бездумным инструментом бессмысленной возни.
– Мы все инструменты, полковник. Вы думаете, в Ордене – иначе?
– Думаю. Ещё как думаю. Тамплиеры служат не относительным, а абсолютным ценностям. Если тамплиеры и ошибаются, если порою и делают не то, что надо, то сам факт ошибки уже указывает на существование верного решения, потому что критерии оценки их деятельности носят абсолютный, незыблемый, в самом высоком смысле – объективный характер. Точка зрения у них одна – точка зрения Бога. А неизменным является только Бог.
В мире политики всё есть добро и всё есть зло, потому что критериев оценки, точек зрения столько же, сколько и людей. Итак, я готов быть инструментом, но только инструментом Бога, потому что о Боге мне известно несколько очень важных для меня вещей. Бог любит меня и никогда не захочет, чтобы я действовал в ущерб себе. Бог любит всех людей, и никогда не захочет, чтобы я действовал во вред кому-то из людей. Бог не меняет своих представлений о том, в чём польза, а в чём вред. Из этого для меня следует, что в руки Бога я могу передать себя в качестве инструмента совершенно спокойно и решительно ничего не опасаясь. Остаётся лишь найти земной способ передать себя в руки Бога в качестве инструмента. Тут возможны варианты. Я свой вариант нашёл, это Орден Храма. У мудрого человека никогда нет выбора, потому что по здравому размышлению вариант всегда оказывается только один.
– Я услышал вас, Георгий Владимирович. У меня остался только один вопрос: вы действительно тащили эту бутылку через семь границ?
– Да, – полковник тепло улыбнулся. – Я ведь старый холостяк, у меня никогда не было сына, а во время нашей с тобой давней мимолётной встречи мне показалось, что между нами пробежала некая искра…
– Вы сумели скрыть это очень качественно.
– Понимаешь ведь, что иначе было нельзя.
– Понимаю. Давайте допьём портвейн. «Да разольётся влага благодатная по всей периферии телесной».
Они пили без закуски. Сиверцев хохотнул:
– Не хватает только плавленого сырка «Дружба».
– Перетопчешься. Рукавом занюхаешь.
Сиверцев блаженно улыбнулся:
– Почему так легко на душе? Так легко, кажется, никогда не бывало. Как будто разрешаются последние вопросы, до сих пор остававшиеся неразрешенными.
– Последняя у попа жена была.
– Тоже верно. И всё-таки – спасибо. Значит, вы хотите вступить в Орден?
– Да.
– Вы, конечно, понимаете, что наши отнесутся к вам с большим напряжением. Со мной-то проще было – ни кто и ни что. Главное – инициативы не проявлял. А тут целый полковник военной разведки, да ещё сам на нас вышел.
– Теперь ты понимаешь, зачем я топтался в храмах чуть ли не два месяца? Думаешь, так трудно было найти вход в ваше убежище? Кому-то, может быть, и трудно только не мне. Но если бы я сам на вас вышел…
– Вы поставили бы нас в очень неловкое положение.
– Вот именно. А теперь всё-таки ваши сами ко мне подошли.
– Снимаю шляпу. Я постараюсь убедить секретную службу Ордена в том, что вы нам свой по духу. Но и вы помогите. Фигуру вашего уровня по базам пробить не возможно. Дайте хоть какие-нибудь зацепочки.
– Не вопрос, – полковник достал из сейфа картонную папку с завязками. – Здесь ниточки, потянув за которые ваши смогут вытянуть кой-какую информацию. Разумеется, ничего секретного. Службу не сдам. Я не Резун, шкуру не спасаю.
– Само собой, полковник. Мы не «проклятые буржуины» и как-нибудь обойдемся без вашей «военной тайны». Но люди у нас не менее основательные, чем в СИС. На то, чтобы принять решение, уйдет не мало времени. Вы готовы прожить в «Царице Савской» ещё как минимум месяц?
– Заходи в гости, Андрюша.
***
Когда Сиверцев в следующий раз зашёл к полковнику, ему хотелось просто поговорить, как с интересным, много знающим человеком.
– Не стану спрашивать, кто такие дохалкидонские монофизиты, – улыбнулся Андрей, – и без вас уже разобрался. Но мне очень интересно, как вы всё-таки смогли вычислить, что тамплиеры укрылись в Эфиопии?
– Книжки читал. Хорошие книжки. Покупал их в магазинах. Они там свободно лежали. Только в отличие от порывистого и простодушного капитана Сиверцева никому не рассказывал о своих внеслужебных интересах.
– Ну, по степени скрытности, куда уж мне равняться с такой матёрой «летучей мышью». Но теперь маски сорваны, полковник. Выкладывайте всё начистоту.
– А вот начнём мы с самой лучшей книжки на свете, с «Нового завета», В «Деяниях апостолов» мы находим поразительный факт, мне кажется, до сих пор не оценённый по достоинству. Апостолу Филиппу явился ангел Господень и сказал: «Восстань и иди на полдень, на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста. И вот муж эфиоплянин, евнух, вельможа Кандакии, царицы Эфиопской, хранитель всех сокровищ её, приезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался, и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исайю…».
Далее «Деяния» повествуют о том, как апостол Филипп растолковал эфиопскому царедворцу, что соответствующий фрагмент у Исайи надо понимать, как пророчество о Христе, и сразу же поверивший ему эфиоп выразил желание незамедлительно креститься.
– Очень рад за того древнего эфиопа, однако, что же в этом фрагменте такого уж поразительного?
– Да то, что эфиопский премьер-министр на момент знакомства с апостолом читал книгу пророка Исайи. Не говоря уже о том, что он возвращался из Иерусалима, куда ездил на поклонение. Мы привыкли думать, что ко времени пришествия Христа на земле был только один центр истинного богопочитания – Иерусалим, только один народ, поклонявшийся Единому Богу – иудеи. И вот, оказывается, при эфиопском дворе штудировали Священное Писание и совершали паломничества в храм Бога Истинного. Эфиопия, таким образом, является вторым сакральным центром, второй Святой Землёй.
– А как вы относитесь к эфиопской легенде о том, что сын Соломона и царицы Савской Менелик похитил в Иерусалиме Ковчег Завета, и с тех пор эта святыня находится в Эфиопии?
– Как и к любой другой легенде – сдержанно. Сообщение священной эфиопской книги «Кебра негаст» для нас, разумеется, не равно по достоинству сообщению «Нового завета». Мы не имеем ни одного факта, подтверждающего подлинность этой легенды, однако, заметь – у нас нет так же ни одного факта, который исключал бы её подлинность. Вообще, с легендами надо уметь работать, то есть уметь вычленять то бесспорное, о чем они безусловно свидетельствуют. В данном случае бесспорно следующее: легенда о царе Менелике и Ковчеге Завета – краеугольный камень на котором строится религиозное мышление эфиопов и эфиопская государственность. Эфиопия сформирована этой легендой, эфиопы сами себя всегда осознавали наследниками славы Соломона и прямыми преемниками традиции подлинного богопочитания. Константинополь в своё время нарекли Вторым Римом, и местные греки стали называть и считать себя ромеями-римлянами. Когда пал Древний Рим, остался только один Рим – Константинополь. Аксум так же считал себя Вторым Иерусалимом, поскольку Ковчег – в Аксуме. Где Ковчег там и Храм, а в Иерусалиме уже не Храм, а пустая скорлупа. Когда же римляне в 70 году разрушили и эту скорлупу, эфиопы естественно сочли, что Аксум теперь единственный Иерусалим – главный сакральный центр земли, и эфиопы – новый и единственный богоизбранный народ, пришедший на смену рассеянным иудеям с их разрушенным Храмом. Для нас исключительно важен тот факт, что сами эфиопы ни когда в этом не сомневались. На протяжении столетий это не могло не привлекать внимание других народов. Христиане всегда стремились к сокрытому христианскому центру, а эфиопы охотно говорили: это у нас. При этом Эфиопия всегда была очень изолированной, воистину сокрытой. Она просто обречена была стать священным магнитом, который притягивал умы и души европейских христиан. Главная эфиопская легенда постепенно переплелась со всеми основными европейскими легендами, создав новую духовную реальность, впрочем, об этом чуть позже.
– Георгий Владимирович, вы сказали, что нет доказательств подлинности эфиопской легенды о Ковчеге Завета. А эфиопские фалаша – Бета Израэль? Ведь вот же он, народ, исповедующий веру в Бога Истинного в исконном, ветхозаветном варианте. При этом сами фалаша считают себя потомками израильтян, переселившихся в Эфиопию. А почему бы и не при царе Соломоне вместе с Ковчегом Завета?
– Действительно, почему бы и нет? Это предположение не противоречит ни одному из известных нам фактов, но так же и не подтверждено ни одним фактом. Народ фалаша – загадка, причем, весьма волнующая загадка. Происхождение вероисповедания фалаша – чистого иудаизма Торы без Талмуда – один из неизученных до сего времени вопросов. Не известно, были ли фалаша коренными обитателями Эфиопии, которые в незапамятные времена приняли иудейскую веру, или они вместе со своей верой были пришлым населением? Большинство исследователей полагают, что фалаша – представители автохтонной народности агау, которые некогда восприняли иудаизм.
– Интересно всё-таки, когда и от кого?
– А, может быть, и правда при царе Соломоне, даже безотносительно к истории с Ковчегом? Из Библии известно, что Соломон отправлял корабли за золотом в страну Офир, не известно только где была эта страна – карта не прилагается. Версий выдвинуто много, однако, все они глупые, кроме одной: страна Офир – Эфиопия. Ближайший к Израилю золотоносный край. И вот представь себе, что год за годом на эритрейском побережье грузят в корабельные трюмы золото для царя Иерусалима. Это же глобальное совместное предприятие. Это длительные, устойчивые, многочисленные человеческие контакты. А золото царю Иерусалима было необходимо для строительства Храма – первого в мировой истории Храма Единому Богу. Разумеется, эфиопские поставщики золота не могли об этом не знать, в процессе такого сотрудничества был просто неизбежен обмен религиозными идеями, и значительной части эфиопов, среди которых было не мало семитов, поклонение Единому Богу могло представиться очень привлекательным. А потом Царица Савская пожаловала в гости к Соломону, взыскуя мудрости великого царя. Поклонение Единому Богу означало отвержение всех иных богов – идея по тем временам революционная, обычному язычнику представлявшаяся полной дикостью. И если бы царица Савская не приняла монотеизм, вряд ли она стала бы учиться мудрости у Соломона.