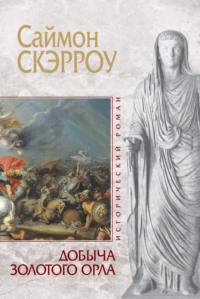Полная версия
Добыча золотого орла. Пророчество орла
Веспасиан помедлил. Тут следовало проявить осмотрительность, ведь Максимий был старшим центурионом, имел длинный послужной список, большая часть которого приходилась на службу в Преторианской гвардии. Такие люди, как правило, сохраняют связи с могущественными друзьями и патронами в Риме, и за них есть кому заступиться. Однако, несмотря на угрозу собственной карьере, Веспасиан чувствовал, что не может поступиться принципами.
– Говоря, что им не хватает стойкости, Максимий допустил преувеличение.
– Почему? Зачем ему это понадобилось?
– Да по той же причине, по которой мы проявили готовность принять его версию событий.
– И что же это за причина?
– Самосохранение.
Веспасиан внутренне подготовился услышать резкую отповедь, но командующий молчал, ожидая от легата продолжения.
– Максимий виноват в том, что когорта не оказалась у переправы вовремя, чтобы защитить ее как следует. Мы с тобой оба прекрасно это знаем, командир.
– Да. Поэтому он и разделяет с ними наказание. И мог быть выбран для децимации так же запросто, как и любой из его подчиненных.
– Это правда, – согласился Веспасиан. – Но почему они должны разделять с ним вину за его ошибку? Если уж надо кого-то наказать, то как раз его одного. Нельзя наказывать подчиненных за ошибки командира. Кому и каким примером это послужит?
– Это послужит всем напоминанием о том, что в легионах, находящихся под моим командованием, небрежение долгом не будут терпеть, – спокойно, но решительно промолвил Плавт. – Где бы и когда бы это ни случилось, я буду действовать быстро и безжалостно. Не зря ведь говорят: пусть ненавидят, лишь бы боялись. Ты не находишь, что в некотором смысле тот факт, что невиновные приговорены к смерти, даже усиливает дисциплинарный эффект?
Глядя на командующего, Веспасиан с трудом сдерживал переполнявшее его негодование. Подобный подход был ему отвратителен. Что случилось с Плавтом? Еще год назад призывы Веспасиана взглянуть на происходящее с позиции морали возымели бы эффект. По отношению к своим бойцам и командирам Плавт всегда был хоть и суров, но справедлив. А теперь…
– Ты сам прекрасно знаешь, что это недопустимо, – твердо заявил Веспасиан. – Этих людей решили сделать козлами отпущения.
– Ну, помимо всего прочего, да.
– И ты готов использовать их таким образом? Позволить им умереть ради сохранения твоей репутации?
Неожиданно Веспасиану пришли на ум аргументы другого рода.
– Одним из тех, на кого выпал жребий, стал центурион Катон. Ты это знаешь?
– Знаю, – кивнул командующий. – Прекрасно знаю. Но это ничего не меняет.
– Ничего не меняет?
Веспасиан не смог скрыть ни изумления, ни гнева.
– Ты прекрасно знаешь его послужной список. Мы не имеем права разбрасываться людьми такого масштаба!
– Ну и что ты мне предлагаешь? – спросил Плавт, вскинув глаза. – Помиловать его? Подумай, что будет, если я сохраню ему жизнь, а остальных отправлю на казнь? Как это будет выглядеть в глазах других людей, в глазах всех солдат? Что получится: для них одни правила, а для центурионов другие? Эта армия уже пережила один мятеж. Сколько командиров рассталось тогда с жизнью? Ты правда считаешь, что мы переживем и второй? Нет, если умирают рядовые, Катон должен умереть с ними вместе.
– Ну так помилуй их всех.
– То есть ты предлагаешь мне показать себя безвольным слабаком? – Плавт покачал головой. – Нет, Веспасиан, ты сам должен понимать, что этого делать нельзя. Если я сегодня вынесу приговор, а завтра отменю, это будет первым шагом на пути к полной утрате авторитета у солдат. И не только у них, а и у плебса. Страх – вот что удерживает их под контролем, и лучший способ побудить их безоговорочно повиноваться – это держать в постоянном страхе перед суровым наказанием, даже если они ни в чем не виноваты. Это работает именно так, Веспасиан. И работало так всегда. Вот почему наше сословие правит Римом…
– О, я совсем забыл. – Плавт улыбнулся. – Ты ведь у нас новый человек. Ты и твой брат. Ничего, к тому времени, как вы дорастете до тоги с широкой каймой, оба поймете, что я имею в виду.
– Я прекрасно понимаю уже сейчас, – ответил Веспасиан, – и мне это отвратительно.
– Это приходит с чинами. Ты привыкнешь.
– С чинами? – Веспасиан издал горестный смешок. – Ну да, конечно. С чинами.
На него навалилась страшная усталость, причем не столько телесная, хотя и она имела место, сколько душевная. Его вырастил отец, для которого Рим и все, на чем он зиждился, представлялось самым лучшим из возможного. Для обоих сыновей преданность долгу и служение Риму были наследием, полученным от отца. Правда, когда Веспасиан занялся политической карьерой, эта вера мало-помалу истончалась, как истончается камень, лишаясь всего ненужного под резцом скульптора. Только вот в результате остался не горделивый монумент, а некий саркофаг, вместилище эгоизма, запятнанное кровью тех, кто был принесен в жертву, причем не высшему благу, а узким, эгоистичным интересам избранного круга хладнокровных, циничных аристократов.
– Довольно! – Плавт хлопнул ладонью по столу так, что таблички подскочили и задребезжали. – Ты забыл, кто ты такой, легат. Так послушай меня.
Несколько мгновений сидевшие по обе стороны стола мужчины с холодным отчуждением смотрели друг на друга, и Веспасиан чувствовал, что проиграл. Причем он не только не смог спасти своих подчиненных, но, похоже, лишил себя надежды в будущем достичь высоких постов в Риме. Ему не хватало необходимой для этого беспощадной жестокости.
Брови командующего изогнулись от ярости, когда он произносил свой монолог.
– Слушай меня. Никакой пощады никому не будет. Эти люди умрут, и их смерть послужит назиданием для товарищей. Этот вопрос закрыт, и я более не потерплю никаких попыток снова его поднять. Никогда больше не упоминай об этом в моем присутствии. Я ясно выразился?
– Так точно, командир.
– Казнь состоится завтра на рассвете, перед строем Первых когорт всех четырех легионов. Выясни, кто из твоих солдат состоял в дружеских или приятельских отношениях с приговоренными – именно они и станут палачами. Если кто-то откажется или вздумает протестовать, он будет распят сразу по завершении казни. – Плавт откинулся назад и глубоко втянул носом воздух. – Все, легат, приказы ты получил. Можешь быть свободен.
Веспасиан с трудом поднялся на ноги и отдал честь командующему. Прежде чем он повернулся, у него возник было порыв в последний раз попытаться воззвать к справедливости. Но в глазах Плавта он увидел стальной отблеск холодной решимости и понял, что высказываться по этому поводу не только бесполезно, но и опасно.
Поэтому он повернулся и вышел из шатра на свежий воздух настолько быстро, насколько это позволяло достоинство его ранга.
Глава 20С треском пробравшись сквозь густой ивняк, покрывавший берег реки, Макрон тяжело опустился на прохладную зеленую траву в тени деревьев. Он поручил своему оптиону Публию Сентию присмотреть за тем, как бойцы его центурии ставят палатки. Центурион Феликс предложил командирам сходить искупаться в реке, но, несмотря на изнуряющую дневную жару, ни Макрон, ни кто-либо еще из центурионов не счел возможным делать это на глазах у обреченных товарищей.
Максимий был полностью поглощен устройством для когорты отдельного лагеря: он делал все возможное, чтобы произвести впечатление профессионала, продолжающего стоически исполнять свой долг при любых обстоятельствах. Но как он ни подгонял солдат, те двигались словно в тяжелой летаргии, выдававшей состояние их духа. Третья когорта была погружена в печаль и молчаливое уныние, усугубляемое тем, что рядом, на виду, были их товарищи, обреченные на смерть. Особенно подавленное настроение было у тех, кого назначили проводить казнь: двадцать человек во главе с центурионом Макроном.
Когда легат отдал приказ, Макрон немедленно отказался, его ужаснула сама мысль о возможности забить дубинкой до смерти Катона, его друга.
– Это приказ, центурион, – сурово заявил легат. – И не вздумай отказываться, выбора у тебя нет.
– Но почему я, командир?
– Таков приказ, – с печалью в голосе ответил Веспасиан. – Ты уж постарайся, чтобы он не очень мучился… ладно?
Макрон кивнул. Сильный удар по голове лишит Катона сознания и избавит от мучительной боли, когда ему будут ломать кости и ребра. Но стоило Макрону об этом подумать, как у него скрутило желудок.
– А как с остальными ребятами?
– Нет. Только Катон. Если мы попытаемся облегчить смерть для всех, командующий просто остановит казнь и назначит для завершения новую команду.
– Понятно, – кивнул Макрон. Будь у него хоть малейшая возможность проявить милосердие ко всем приговоренным, он воспользовался бы ею не задумавшись. Но легат был прав: они могут лишь попытаться облегчить страдания друга.
– Все это очень скверно, центурион. Для всех нас. Но таким образом Катон, по крайней мере, избегнет худшего.
– Да, командир.
– А теперь отправляйся и отбери команду для исполнения казни.
Быстро отдав честь, Макрон вышел из палатки, радуясь возможности оказаться снаружи и вдохнуть полную грудь чистого воздуха. Никогда в жизни от него не требовали делать то, что настолько не соответствовало его представлениям о добре и зле. Перед мысленным взором центуриона предстал образ Катона – связанного, стоящего на коленях у его ног. Паренек поднимает глаза, чтобы встретиться взглядом с другом, а он, Макрон, заносит дубинку…
При этой мысли кровь застыла в его жилах. Он стукнул себя кулаком по бедру и зашагал обратно к лагерю Третьей когорты.
Для исполнения казни он отобрал бойцов преимущественно из центурии Катона – закаленных ветеранов, насчет которых можно было не сомневаться: они, и глазом не моргнув, исполнят любой, даже самый ужасный приказ. Сейчас они были заняты подбором орудий казни: лучше всего для этого подходила рукоятка от кирки. Дубинки следовало подобрать по весу и длине так, чтобы можно было наносить сокрушительные, смертоносные удары. Солдаты подошли к полученному заданию с сугубым прагматизмом, и Макрон, вроде бы и сам такой же ветеран, не мог не дивиться тому, что они, похоже, воспринимали этот приказ так же, как и любой другой. «Должно быть, – подумал центурион с хмурой усмешкой, – я слишком сблизился с Катоном». До знакомства с этим пареньком Макрон никогда не ставил под вопрос аспекты армейской жизни, воспринимая их как должное. Но сейчас он начал видеть все в другом свете и чувствовал себя не в своей тарелке. Возможно, после того как Катон умрет и будет кремирован, ему удастся забыть все и вернуться к прежнему мироощущению – принимать жизнь такой, какая она есть, рутинно исполнять свои обязанности и, главное, поменьше задумываться над сложными жизненными вопросами.
Умрет и будет кремирован.
И это о Катоне – таком сообразительном, таком живом? Нет, это просто невозможно! Недопустимо! Должно быть, легат спятил, раз отдает такие распоряжения. Во-первых, спятил, а во-вторых, возможно, еще и струсил до такой степени, что решил возложить самую грязную работу на Макрона. Чего Макрон ему в жизни не простит.
– Проклятье! – пробормотал центурион. Он был зол на легата и на себя самого, прежде всего за то, что вообще сдружился с Катоном.
Отломив ивовую ветку, Макрон принялся методично очищать ее от листьев. По ту сторону Тамесиса группа солдат из других легионов, сняв туники, входила в воду. Темный загар их лиц и рук резко контрастировал с белизной торсов и чресел. Над рекой разносились их крики: сначала охи и ахи по поводу того, какая холодная вода, а потом смех и гогот, когда они принялись забавляться и обрызгивать друг друга. Это разозлило Макрона еще больше, и он устремил взгляд дальше, на берег, туда, где бойцы вспомогательных подразделений заполняли последний из погребальных рвов полуразложившимися на жаре трупами. Смерть существовала бок о бок с живой, беззаботной молодостью. Макрон отломил еще одну ивовую ветку и стал яростно обрывать с нее листья.
Потом он заметил, что шагах в пятидесяти выше по течению к берегу спускается Фигул. Громадный галл присел на корточки в траве и уставился на реку, держа во рту соломинку.
Потом Фигул медленно огляделся, заметил сидевшего под ивой центуриона, поднялся на ноги и, немного помедлив, направился к Макрону.
– Дерьмо! – буркнул центурион себе под нос.
Макрона так и подмывало послать Фигула куда подальше: он отправился к реке специально для того, чтобы побыть одному и попробовать разобраться в своих мыслях, а не отягощать сердце ненужным разговором с оптионом. Но потом, подумав, что Фигул наверняка тоже расстроен участью Катона, Макрон смягчился и по приближении Фигула даже ухитрился вымучить улыбку.
Оптион вытянулся и отдал честь.
– Да ладно, парень, мы сейчас не на службе. Брось ты, на хрен, эти церемонии.
– Есть, командир.
Фигул чуть отступил и переминался с ноги на ногу в нескольких шагах от лиственной завесы.
Макрон вздохнул:
– Ты что-то хотел мне сказать, да?
Оптион слегка опустил голову и кивнул.
– Ну так выкладывай.
– Есть, командир.
– И присядь в тенечке, а то на этой жарище твои и без того-то крохотные мозги совсем спекутся.
– Есть, командир.
Могучей мускулистой рукой Фигул сдвинул в сторону загораживающие солнце ветки, на миг возвысился над Макроном, словно башня, а потом присел на корточки неподалеку, но все же на почтительном расстоянии от старшего по званию.
– Ну?
Фигул настороженно огляделся, его соломенные брови угрюмо сдвинулись.
– Я насчет центуриона Катона, командир. Они не имеют права так с ним поступать. Ни хрена это не справедливо… прошу прощения, ежели не так выразился, командир.
Макрон посмотрел на него искоса:
– Ага, тебя забыли спросить. Не по чину тебе обсуждать такие вещи.
– Виноват, командир, – с серьезным видом кивнул Фигул. – Больше не повторится.
– Смотри у меня, на хрен, чтоб не повторилось.
Видя испуганное лицо Фигула, Макрон расслабился, согнал с лица суровое выражение и усмехнулся.
– Смотри не обмочись, парень.
– Ну да…
Улыбка Макрона стаяла.
– Что же касается Катона, то, боюсь, мы с тобой тут ничего не можем поделать. Решительно ничего. Приказ есть приказ. Так что, приятель, привыкай к тому, что ты теперь исполняешь обязанности центуриона. Как, кстати, дела?
Фигул без воодушевления пожал плечами, машинально потянулся к ивовой ветке и только потом заметил, что Макрон тоже лениво обдирает листья. Рука его замерла и опустилась: судя по всему, он подумал, что, если начнет вот так, ни с того ни с сего делать то же самое, что и Макрон, тот решит, будто оптион передразнивает старшего по званию. Вместо ветки он подобрал с рыхлой прибрежной земли камушек, подбросил несколько раз на ладони, а потом швырнул в медленно текущую воду. Послышался плеск, по гладкой поверхности от места падения разбежались круги. Он дождался, пока рябь уляжется, и лишь тогда, не поворачиваясь к Макрону, упрямо сказал:
– А все-таки мы могли бы что-нибудь сделать, командир.
– Например?
– Ну, пойти поговорить с легатом.
Макрон покачал головой:
– Бесполезно. Я с ним уже говорил. Поверь мне, он своего мнения не изменит.
– Ну тогда с командующим.
– А уж он, определенно, и слушать нас не станет. А если все же услышит, что мы собираемся протестовать, то попросту отправит нас на расправу заодно со всей компанией. И вообще, – Макрон пожал плечами, – что мы можем им сказать? Что это несправедливо? Не сработает, тут и думать нечего. Наше подразделение провалило задание, и со стороны очень смахивает на то, что нам не хватило храбрости. Никто не позволит Третьей когорте соскочить с крючка.
– Но мы ведь не бежали, а отступили потому, что получили приказ Максимия. Да начать с того, что и у брода мы вовремя не оказались из-за него. Он и должен нести ответственность, командир, а не Катон и все остальные.
Макрон резко повернулся к оптиону:
– Ты что, думаешь, я этого не знаю? Думаешь, я не переживаю по этому поводу? Я тебе так скажу, Фигул, весь хренов легион знает, как все было на самом деле. Удивлюсь, если этого не знает вся долбаная армия. Но кто-то должен был поплатиться за учиненный им бардак, и судьба распорядилась так, что этим несчастным оказался Катон. Ты прав, справедливостью тут и не пахнет. Это просто невезение. И мне от этого так же тошно, как и тебе.
Оба умолкли, глядя на купальщиков у другого берега. Макрон, задумавшись, машинально чертил что-то на земле ободранной веткой, но потом вдруг прочистил горло и добавил:
– Но ты прав. Кое-что можно было бы сделать.
Когда над землей сгустились холодные сумерки, Катон вдруг почувствовал, что дрожит. Вдобавок у него отчаянно болела голова и жгло обгоревшую кожу на всех открытых частях тела, ведь ему, как и остальным приговоренным, пришлось просидеть весь день под палящим солнцем. А как только солнце зашло, небо затянуло тучами и воздух сгустился, что явно указывало на приближение дождя. Катон воспринял это как еще один знак того, что боги окончательно отвернулись от него – мало им предстоящей мучительной казни, так его еще подвергают пыткам: днем – изнуряющим зноем, а ночью – холодом.
Один из лагерных рабов притащил из реки несколько фляжек воды, и каждому из арестованных позволили увлажнить пересохшее горло, выпив несколько пригоршней. Но еды не давали: в походных условиях избытка припасов не было и расходовать провизию на завтрашних мертвецов никто не собирался. Катон сказал себе, что в этом есть смысл. То есть логически это вполне оправданно. Вряд ли что-нибудь может быть правильнее в сложившихся обстоятельствах. Куда больше всех других соображений его терзала мысль о том, что он решительно ничем не заслужил завтрашнюю кару. Он сражался с врагом лицом к лицу, еще не имея никакого опыта, когда малейшая оплошность грозила смертью. Он принял участие в опаснейших поисках, позволивших найти угодивших в плен родных самого командующего и освободить их, вырвав из рук жестоких друидов. Около двух лет назад он рисковал быть сожженным заживо, спасая Макрона в одном германском селении. Каждая их этих акций была сопряжена с огромным смертельным риском, но он шел на это с готовностью, осознавая опасность. Гибель в ходе любой из них была бы естественной, ибо он заранее знал, что подвергает себя опасности. Такова цена, которую приходится платить тому, кто избрал воинскую профессию.
Но это? Хладнокровная расправа, призванная послужить примером для устрашения других легионеров? Хотелось бы знать, примером чего? Того, что случается с трусами? Но он не трус. Нет, на самом деле он испытывал страх чаще, чем готов был признать, да что там страх – ужас. Однако всякий раз ему удавалось преодолеть это чувство, и он продолжал сражаться, несмотря ни на что. Разве это не храбрость? Конечно храбрость.
Битва у брода не была исключением. Он сражался с тем же энтузиазмом, движимый тем же желанием, чтобы его видели в первой шеренге, ведущим бой бок о бок со своими подчиненными. Он не прятался позади строя, побуждал солдат противостоять врагу и личным примером, а не пустыми призывами и жестокими угрозами в адрес тех, чья трусость не защищена чином.
То, что он осужден на казнь за преступление, в котором не было и толики его вины, причем не по чьей-то злой воле, а в силу нелепой слепой случайности, казалось ему худшим, что можно вообразить.
Первые капли дождя начали покалывать его обожженную солнцем кожу, холодный ветер шевелил высокую траву и шелестел в листве росших вдоль берега деревьев.
Молодой центурион лег на бок и свернулся клубком, чтобы подольше сохранить тепло. Ремни, туго стягивавшие запястья и лодыжки, натерли кожу до крови, так что любое движение отзывалось болью. Он попытался не шевелиться и закрыл глаза, хоть и знал, что это его последняя ночь в этом мире. А ведь раньше Катон думал о том, что надвигающаяся неотвратимая смерть заставит его жадно вбирать в себя окружающую действительность в мельчайших подробностях, чтобы удержать все в сознании и не упустить напоследок ни толики из того, что составляет радость бытия.
– Удержать день, – пробормотал Катон и издал горький смешок. – Проклятье!
Не было у него сейчас ни остроты восприятия мира, ни возбужденного стремления прочувствовать каждое оставшееся мгновение жизни – только тлеющий гнев, отклик на несправедливость всего происходящего да ненависть к центуриону Максимию, столь жгучая, что казалось, кровь вот-вот закипит в жилах. Максимий будет жить и получит возможность постепенно искупить позор своего провала у брода, в то время как Катону предстоит переправа через совсем другую реку, из-за которой никому нет возврата. И он никогда не сможет доказать, что неповинен в том, из-за чего был подвергнут казни.
Настала ночь. Все так же продолжал лить дождь, все так же дул ветер, а Катон лежал на земле, дрожа и от холода, и от накатывавших на него волнами гнетущих мыслей и образов. Большинство сидевших или лежавших вокруг приговоренных, как и он сам, молчали, некоторые тихонько, вполголоса переговаривались, а один, не выдержав нервного напряжения и палящего зноя, еще до заката тронулся умом и теперь то и дело начинал громко призывать свою мать, но крики его всякий раз стихали, постепенно переходя в сдавленный бессвязный лепет.
Судя по тому, что из палаток Третьей когорты не доносилось ни звука, недавние сослуживцы осужденных, видимо, тоже пребывали в подавленном состоянии. А вот из-за лагерного вала Второго легиона доносился шум: возгласы игроков в кости, в которых звучала то радость, то разочарование, обрывки песен, что распевали у костров, уставная перекличка часовых. Всего сотня шагов – и совсем другой мир.
Над головой, в разрыве между облаками, на черном бархате безлунного неба проступили звезды, напоминая Катону о собственной незначительности в сравнении с грандиозностью окружающего мира, и к первой смене ночной стражи он уже почти смирился с собственной участью. Короткий сигнал трубы, прозвучавший в лагере легиона, обозначил второй час ночи, и двое легионеров, назначенных караулить приговоренных, нетерпеливо ожидали смены. Дождь барабанил по их шлемам, холодный ветер заставлял плотнее укутаться в намокшие плащи.
– Что-то они не торопятся, – проворчал один. – А чья нынче очередь?
– Фабия Афера и Нипия Кессона, оба из недавно прибывших.
– Долбаные новобранцы. – Первый караульный сплюнул на землю. – Я от них прямо ошалел за эти дни. Ублюдки хреновы, у них что башка, что задница – все едино.
– Золотые слова, Васс. И эти их задницы заслуживают хорошего пинка. Когда б не эти педерасты, хренова когорта не вляпалась бы в такое дерьмо.
– Да уж, заслуживают славного пинка. Ага, смотри – никак тащатся.
Из темноты появились две фигуры: даже дождь и ветер не могли заглушить шарканья сапог по траве.
– Какого хрена вы так долго валандались?
– Ни хрена мы не валандались, – прозвучал из темноты голос одного из бойцов, затем короткий смешок его спутника. Оба шагнули вперед, чтобы сменить товарищей.
– Постой-ка, – пробормотал Васс, всматриваясь в сумрачные фигуры. – Никакие это, на хрен, не Кессон с Афером. Кого это сюда принесло?
– Произведена маленькая замена.
– Да кто вы такие?
Увенчанная шлемом голова Васса подалась вперед, чтобы получше разглядеть новоприбывших, и в тот же миг вылетевший из темноты кулак с хрустом врезался ему в челюсть.
Ослепляющая вспышка света внутри черепа – и караульный без чувств рухнул на землю.
– Что за?.. Кто…
Второй караульный мгновенно схватился за рукоять меча, но не успел и на ширину ладони обнажить клинок, как тоже был сбит с ног и грохнулся на землю с такой силой, что из легких вышибло весь воздух.
– Ух ты! – пробормотал Фигул и помахал рукой. – У этого педераста челюсть как валун.
– Зато он и грохнулся, как валун, – промолвил Макрон, поставив на землю большой мешок, звякнувший металлом. – Да, не хотелось бы мне подвернуться под твой кулак.
Фигул издал смешок:
– Похоже, тех козлов, которых мы приложили у интендантского шатра, это тоже не порадовало.
– Ага. Очень смешно. Правда, один из них нас узнал. Ты понимаешь, что это значит?
– Знаю, командир. Но что теперь поделаешь… Мы продолжаем или как?
– Конечно продолжаем… Катон! – тихонько позвал Макрон. – Катон! Где ты тут?
Некоторые из лежавших на земле осужденных зашевелились и приподнялись, почуяв, что происходит что-то необычное. Арестованных охватило нервное возбуждение, зазвучали встревоженные приглушенные голоса.
– Тише! – шепнул Макрон настолько громко, насколько осмелился. – Лучше не шуметь… Катон!
– Здесь я. Здесь.
– Там и оставайся. И не шуми.
Макрон двинулся на голос, щурясь, чтобы разглядеть друга, которого даже в темноте было ни с кем не спутать из-за высокого роста и худобы.
– Хочешь, чтобы все вокруг нас услышали? Смотри, надсмотрщики мигом нагрянут.