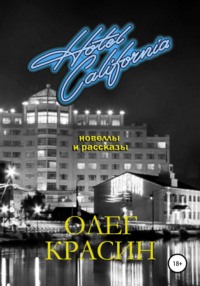Полная версия
Элегiя на закате дня
Однажды ему приснилось давнее путешествие из Мюнхена в Аугсбург, которое он проделал, будучи молодым. Жаркое лето в августе тысяча восемьсот сорокового, пассажирские вагоны, праздная, разодетая публика. Что-то отмечали тогда, кажется, годовщину открытия железной дороги.
Тютчев пригласил прокатиться с собой семейство Мальтицев. Барон Аполлоний Петрович служил первым секретарем дипломатической миссии в Мюнхене, а его жена баронесса Клотильда была родной сестрой первой жены Тютчева – Элеоноры. Их сопровождала горбунья, служащая у Мальтицев – маленькая, неприметная как мышка, женщина.
Веселой компанией они отправились по живописным местам Баварии, пили вино, заедали баумкухеном9, наслаждались беседой. Впрочем, отъехали недалеко, всего миль на пять. Они высадились на большой лужайке, где можно было погулять, послушать оркестр, купить дамам мороженое. Народу собралось много, поезда подвозили все новых и новых людей поодиночке и целыми семействами. Все хотели выбраться на пикник.
Тютчев увидел перед собой живое море – людские волны накатывали на зеленую лужайку, на окружающий лес, на чугунную дорогу. Море состояло из мужских голов в высоких цилиндрах и шляпах, и женских – в светлых летних шляпках с цветами, с перьями и без них. Немецкая публика важно фланировала по лужайке, раскланивалась, улыбалась, ела мороженое, пила сельтерскую воду.
Постепенно приближался вечер, но поезд, чтобы вернуться в Мюнхен, все не подавали. И вот здесь начался ужас. Он явственно помнил его, этот ужас, даже во сне. Было темно. Сгрудившаяся у железной дороги эти благовоспитанные и культурные немцы вдруг превратилась в колышущуюся, возмущенную, безжалостную толпу, выталкивающую случайных людей на рельсы.
Никто не хотел ночевать под открытым небом!
Тютчев чувствовал эти толчки, это жуткое давление. Его тоже подталкивали к рельсам, и в этом было нечто неотвратимое, страшное. Он силился проснуться, дабы не испытывать охватившее его ощущение обреченности и приближающейся смерти. Такое чувство, наверное, испытывали французские дворяне, когда жестокая якобинская толпа влекла их к гильотине.
Однако тягостный сон не прерывался. Упираясь ногами, Тютчев сопротивлялся толпе всеми силами. И все же, если бы паровоз в эту самую минуту подавал состав, то он, без всякого сомнения, очутился бы под колесами вагонов и был бы растерзан железным зверем, как жертвенный агнец, выданный всесильной судьбой на заклание.
Маленькую горбунью в потемках тоже вытолкнули вперед. Он услышал ее сдавленный всхлип и схватил женщину за руку, не давая инертной людской массе отторгнуть ее от себя. Он держал горбунью из всех сил, слыша чужое бормотание, неясные крики, тяжелые вздохи. В этой суматохе он утерял Мальтицев и не знал, что с ними, где они.
Кто-то решил, что стояние в неподвижной и угрюмой толпе занятие довольно веселое и потому запустил фейерверк. Огоньки, шипя и разлетаясь по сторонам, горячими брызгами резво взмыли в небо. Они осветили вокруг клейкую массу из бледных, прижавшихся к Тютчеву людей, похожих на остывшую манную кашу.
Все это виделось ему будто наяву: искаженное страхом голубое лицо горбуньи, и он сам, стоящий, словно в шаге от пропасти, у самых рельсов. При желании можно было поставить на них ногу. И он ставит, чувствует холод железа и это странно, поскольку ноги его одеты в кожаные туфли. Но холод пробирает до костей.
Покойная Элеонора улыбается, лениво прикрывая глаза. Она, едва заметная в сгущающейся темноте, кажется, едет в одном из вагонов, который медленно приближается к ним. Элеонора машет рукой, делает непонятные знаки, и он силится их разгадать: приглашает ли его первая жена к себе, в загробный мир, или гонит прочь, мол, еще не время.
О, это время! Его ничто не возвратит! Сколько людей дорогих и близких оно забрало с собой безвозвратно!
Сквозь тяжелые тучи вдруг прорывается лучик солнца. Элеонора с вагоном исчезает, и его кто-то берет за руку. В вечернем, сыром воздухе рука кажется необычно теплой. Поначалу он думает, что это служанка-горбунья. Потом, что это его приятель Аполлоний Мальтиц. Но оглянувшись, обнаруживает Лелю. В голове мелькает: «Что она делает здесь, в Мюнхене? И где Эрнестина?» В Мюнхене он с Денисьевой никогда не бывал. В этом городе он жил лишь с бывшей и нынешней женами: с Элеонорой и Эрнестиной.
Леля улыбается и ласково приглаживает растрепавшиеся волосы Тютчева, молчит, но это молчание красноречивее слов. Он чувствует исходящее от нее тепло любви и в груди его тоже теплеет; он уже не боится мрачной, угрожающей толпы на лужайке, не боится сумерек, несущих неизвестность, не боится, что придется штурмом брать вагоны, которые уже подает поезд, окутанный серым паром, будто старый курильщик.
Но в это самое время, пугающий сон прерывает бесцеремонный Щука, пришедший разбудить барина, и Тютчев молит в полусне: «Подожди, постой мгновенье! Дай еще побыть с Лелей там, на лужайке, в сумерках, освещенных ее любовью».
Роман поэта
Вскоре Тютчев снял комнату возле вокзала в Павловске, где уже никто не мешал им встречаться. Они любили гулять: уехать на извозчике куда-нибудь далеко, за город, чтобы случайно не встретить знакомых, и там без помех наслаждаться обществом друг друга. Бродили по зеленым лужайкам, выбирались в ухоженные петербургские парки, впрочем, избегая известных мест вроде Павловска или Петергофа.
Как-то прогуливаясь по дальним дорожкам, они попали под дождь. Тютчев был в сюртуке, на голове высокий черный цилиндр, а Леля надела легкую бежевую шляпку, которую дождь сразу намочил. Тютчев, улыбаясь и глядя в ее темные большие глаза, предложил вместо шляпки надеть его цилиндр. Она звонко расхохоталась: «Vous êtes un farceur Monsieur Tutcheff10!»
Она еще не говорила ему «ты», еще чувствовала себя неловко. А он сжал ее в объятиях, влажную, пахнущую дождем, травой, лесом и жадно целовал губы, ее лицо и глаза. Она шутливо отбивалась.
Потом настроение Лели резко менялось: она не хотела расставаться с ним, не хотела делить с другой, не хотела, чтобы он возвращался в чужой дом. Он же был только ее, неделим ни с кем, и она так и говорила: «Вы месье Тютчев, мой собственный!» На глазах ее выступали слезы, и она отворачивалась в сторону, не желая расстраивать Тютчева своим переменчивым настроением.
Но домой он все-таки возвращался. Вот и в тот день вернулся с прогулки весь мокрый, и Щука принялся снимать с него влажный сюртук. Рядом стояла Эрнестина, мудрая, добрая, понимающая; она всегда присматривала, чтобы камердинер вовремя обихаживал ее Теодора. А Тютчев смотрел на тяжелый от воды сюртук и на губах возникали слова, звучащие будто музыка, которые при желании, можно было бы напевать. Иногда они складывались в строчки, строфы, стихи, как о каплях дождя, похожих на слезы. Вроде тех, сочиненных им когда-то: «Слезы людские, о слезы людские, льетесь вы ранней и поздней порой…»
В это счастливое время – время всеобщего неведения, поскольку об их романе никто не знал, – они съездили втроем: он, Леля и его старшая дочь Анна в Валаамский монастырь. Романтичное ночное плаванье по Ладожскому озеру, счастливые взгляды Лели, которые она обращала на него – это было так поэтично, что если бы в эту минуту он находился один, то непременно написал бы пару строф на каких-нибудь листках, подвернувшихся под руку.
Дочь Анна, зачарованная природой, ничего не замечала. Как он бы хотел, чтобы все, кто любили его, всегда были рядом, дарили несказанное блаженство душе. В этом, конечно, было много от эгоиста, ибо эгоисты думают только о себе, но он не видел ничего плохого в своем желании. Никаких раздоров, склок, презрительных слов, искаженных гневом физиономий – только улыбающиеся лица, только счастье, только любовь, разлитая в воздухе.
Та, поездка на Валаам удалась, и Тютчев долго вспоминал ее с теплым чувством. Он снова ощущал подъем, экстаз поэтической мысли, его вновь как в молодости, когда жил в Баварии, охватило воодушевление. Теперь его, как и прежде, интересовало все: свои и чужие стихи, блестящие женщины, политика европейских государств. Он будто ожил на шестом десятке лет, и сердце вновь билось, уже не отсчитывая оставшиеся мгновения жизни, клонящейся к закату, а со светлой верой в будущее.
Иногда он с удивлением смотрел на себя. Приглаживая торчащие волосы, и беспокойно расхаживаясь по кабинету в одиночестве, вопрошал: «Разве я бестолковое существо, коих много в гостиных и салонах Петербурга? Разве я легкомысленный папильон11, порхающий от цветка к цветку, в поисках наслаждений, пьяный от летних ароматов?» Нет, нет и нет! Он был серьезным человеком, семьянином, камергером двора его Величества!
И все же, Леля, и он это чувствовал, вернула его к жизни. Ее страсть, ее темперамент, ее молодые желания невольно передавались и ему – рассеянному старому ворчуну. Так любовь пела свою вечную песню, как поет вечную песню океан, обнимая землю.
Но была еще Эрнестина Федоровна, которую не сбросишь со счетов.
С женой Тютчев не хотел расставаться, поскольку, хотя и считал роман с Лелей Денисьевой, явлением замечательным, льстящим мужскому самолюбию, но все-таки явлением непродолжительным и неглубоким. Всем известно, что романы в этом возрасте только тешат тщеславие стареющих мужчин и ничего более – любовный корабль не может плыть под старыми дырявыми парусами.
Похоже, с этим была согласна и сама Эрнестина. «Я рассчитываю на окончание нового увлечения Теодора осенью», – сообщала она близкому другу семьи Вяземскому еще перед поездкой мужа на Ладогу в компании дочери Анны и мадемуазель Денисьевой. Сырая погода, общая вялость и тоска, распространяющаяся в это время, должны были потушить чувства мужа, как гасят тлеющие угли ведром воды. «Осенью все встанет на свои места», – надеялась она.
Вяземский обмолвился об этом Тютчеву. «Пожалуй!» – мысленно согласился тот, ведь он привык к жене, а привычка, писали древние, вторая натура. Ситуация очень напоминала его прежние отношения с Эрнестиной, сложившиеся при жизни первой жены Элеоноры. Как будто история повторялась спустя десятилетия, только теперь в роли жертвы измены выступала нынешняя супруга.
Он, Тютчев все это уже испытывал, переживал. Опять его ждало мучительное раздвоение и неуверенность. Опять предстояло жить с изматывающим лицемерием и терпеть слезы обманутой Эрнестины. А иногда и ронять свои.
Интерлюдия
Чтобы оправдать себя или извинить в глазах жены он начал проявлять внезапные и странные порывы нежности и внимания, которыми давно уже не одаривал Эрнестину Федоровну, ведь их дом, как заметила его старшая дочь Анна, стал cheerless12, и стал уже давно.
Он писал жене: «Милая моя киска», «Целую твои лапки», «Весь твой!», словно хотел отвлечь от тяжелых мыслей, задурив голову легкой и ни к чему не обязывающей болтовней. Но как же все сложилось неудобно, как запуталось! Тютчев таил в себе чувства к Леле и страдал от того, что ими нельзя было поделиться с близким другом, с женой Эрнестиной.
«Молчи, скрывайся и таи
И чувства, и мечты свои —
Пускай в душевной глубине
Встают и заходят оне».13
Такие слова он писал в молодости, но время говорить откровенно не наступило и сейчас.
Тайна, которую трудно скрыть
Приближался выпуск из Смольного института, который по традиции всегда проходил в марте. На крышах таял снег, наполняя воздух звуками веселой капели. Лед на Неве сделался пористым и серым, поддаваясь теплому ветру; он таял по краям возле берегов, день ото дня, расширяя полосу чистой воды. Вокруг Смольного института снег уже убрали и только стройные деревья приветливо размахивали голыми руками веток.
К неординарному, памятному событию готовились все. Тютчев с удовольствием наблюдал приготовления дочерей, которые были выпускницами и с особым чувством отдавались наступающему празднику, находясь в восторженно-приподнятом настроении. Они шили новые платья, украшали прически высокими черепаховыми гребнями. Ко всему прочему Совет Императорского Воспитательного Общества за хорошую учебу и примерное поведение намеревался поощрить девиц Тютчевых – Дарью золотой медалью, а Катю серебряной.
Среди этого цветника Леля порхала как веселая птичка, а лицо ее тетки инспектрисы Анны Дмитриевны, чей класс выпускался, сделалось строгим и значительным, каким и подобает быть лицу воспитателя в особо торжественных случаях. Она даже помолодела на время от свалившихся приятных забот. В душе тетушка надеялась получить орден святой Екатерины – стать кавалерственной дамой, и, пользуясь милостями императрицы Александры Федоровны, попросить за племянницу.
Молодой Денисьевой, по мнению Анны Дмитриевны, вполне можно было подумать о звании фрейлины при дворе: звание ответственное и почетное, и потом, это означало быть на виду у августейшей фамилии. Опять же можно составить блестящую партию. Как известно, государь щедро награждал фрейлин, когда те выходили замуж, а если они при этом были его фаворитками, то и говорить нечего!
С Тютчевым инспектриса всегда вела себя уважительно, порою даже подобострастно. В ее глазах камергер императорского двора представлялся фигурой, в высшей степени, светской и влиятельной, который мог замолвить словцо в высших сферах, в особенности перед великой княгиней Еленой Павловной14, покровительницей Смольного.
За эту подобострастность Леля не раз пеняла тетке. Знала ли Анна Дмитриевна о возникшем романе между племянницей и светским львом Тютчевым? Она знала, но закрывала глаза, ибо таких увлечений на ее веку было предостаточно. Она считала возникшую любовную интригу несерьезной забавой, сиюминутным развлечением, которое, не успеешь оглянуться, как наскучит обоим.
Но… Леля забеременела и это серьезно все осложнило. Оставалась лишь призрачная надежда, что под кринолином, под широкими платьями, никто не заметит выросший живот – выпуск предстоял в марте, а рожать в мае.
– Боже мой! Боже мой! – переживала тетка, глядя на племянницу, томимая нехорошим предчувствием. – Леленька, как же так можно? Ты совсем потеряла голову! Ты навлечешь позор на себя, попомни мои слова.
– Oh maman, mais je l'aime!15 – отвечала Денисьева, блестя глазами. Она была счастлива.
– Но отчего Федор Иванович не жениться на тебе? Этот шаг достойный благородного человека, он сразу разрешил бы все твои заботы.
– Никак невозможно, тетя, – медленно отвечала племянница, подбирая слова, – Федор Иванович мне все объяснил. Он женат уже третьим браком, а церковь не разрешает четвертый брак, ты же знаешь.
– Бедное, бедное мое дитя! – сокрушалась тетка и, прижав голову Лели к своей теплой груди, гладила ее морщинистой рукой, словно предвидя все беды и напасти, какие обрушаться на голову ее Леленьки.
В эти дни Анна Дмитриевна сторонилась Тютчева, считая его полностью виноватым, ведь человек в его возрасте и положении должен рассчитывать последствия своих дурных поступков. А Федор Иванович, оповещенный о грандиозных планах инспектрисы, которым он невольно воспрепятствовал, переживал и молил Бога, чтобы все прошло благополучно: и беременность Лели, и выпуск институток.
– Леля, что же нам делать? – растерянно вопрошал он.
– Все обойдется, я уверена! – спокойно отвечала Елена Александровна, – ты не представляешь, как я счастлива.
Она невольно положила руки на круглый живот, и Тютчев, больше проникаясь нежностью к ней, чем к будущему ребенку, попросил:
– Если будет девочка, я хотел бы, чтобы ее тоже звали Лелей.
– А если мальчик, тогда назовет как тебя – Федором.
Он с легкостью согласился, но тревога в душе не улеглась – Леля была еще слишком молодой и неопытной в светских интригах, в запутанных отношениях, связывающих многие знатные семьи. Она не представляла, как зло и жестоко может наказать свет за пренебрежение к установленным правилам.
Тютчев осторожно погладил ее живот, впрочем, без особых эмоций на лице и Леле показалось, что он не очень-то и хочет ребенка. Конечно, зачем ему, если от других жен у него уже есть дети обоего пола и их много, а ведь еще требуется всех содержать в приличном достатке. Но неужто расходы на ее дитя лягут на него большим бременем? Она же никогда ничего не просила! Только любви его сердца! Только душевного тепла!
Все это выглядело очень обидным и Леля, чтобы скрыть набежавшие слезы, отошла к деревянной колыбели, купленной недавно у старого плотника, жившего на соседней улице. Однако она, на самом деле, еще мало знала Тютчева. Не только ей, но и всем представлялось, что к маленьким детям, в том числе и своим, он был холоден, как зимнее солнце, почти равнодушен. Тютчев любил блистать, а как можно блистать перед детьми? Им ведь нельзя показать ни глубину своего ума, ни обсудить с ними высокую политику, ни бросить забавную шутку.
Когда старшая дочь Анна его упрекнула в этой удивительной отстраненности, он серьезно ответил: «Но они же дети». Оказывалось, что Тютчев нуждался в великосветском обществе, в ежедневном общении с посторонними, малозначащими для его жизни людьми, но к своим детям его ничуть не тянуло. И такая парадоксальность отца возмущала Анну. Однако он мог и бравировать перед дочерью нетривиальным подходом к семейным отношениям, чтобы умолчать об иной, утаиваемой им истине, поскольку: «Молчи, скрывайся и таи и чувства, и мечты свои!»
Да, да, и с Анной, и другими дочерями он делился далеко не всем. Много позднее в разговоре с дочерью Машей он признается, что всегда стеснялся маленьких детей, ибо ему казалось, будто его рассуждения, его речи, его поведение, будут непостижимы для детского разума.
А быть непонятым для него – самая большая трагедия.
Интерлюдия
Несмотря на заботы, связанные с Лелей, с их волнующим романом, эта блестящая жизнь отвлекала его: рауты, балы, встречи, салонные беседы, разговоры о политике, сплетни – он забывался в бурных водах житейских историй и отношений, среди великосветских интриг, посреди осуждения или восхищения, которым его встречали.
Рассеянность его делалась притчей во языцех, забавные истории передавались из уст в уста, как смешные анекдоты, подобно анекдотам о Петре Великом или матушке Екатерине. Но ведь он еще не умирал, он еще не стал историей. И этом было новое, непривычное ощущение – чувствовать себя неким историческим персонажем среди современников.
Однажды в один из обычных зимних дней не занятых поездками на рауты и шумные балы, Тютчев в одиночестве прогуливался возле Михайловского замка. Мысли его были заняты состоянием цензуры в России, необходимостью ее смягчения. Этот вопрос намедни обсуждался им с Никитенко16, который разделял взгляды Федора Ивановича. И вот, размышляя о сем важном предмете, он почувствовал, как кто-то бесцеремонно дергает его за рукав.
– Барин, барин, подайте ради Бога! Добрый барин!
– А? Что?
Он поворотился к нищенке. Грязная, худая рука выпросталась из-под дырявого платка, наброшенного на плечи. Немолодая женщина с исхудавшим лицом и тоскливыми глазами в драном салопе терпеливо переминалась с ноги на ногу.
– Детки есть у тебя? – вдруг спросил Федор Иванович, всегда избегавший разговаривать с нищими.
– А как же, барин! Трое ртов, как-никак. Мужик мой помер, вот и мыкаемся по людям.
– А, ну-ну!
Он порылся в кармане, ожидая нащупать денежки, но камердинер Тума, когда чистил платье, видимо, выгреб мелкие монетки. «Когда не надобно, Щука такой расторопный», – подумал Тютчев с раздражением. Немного поискав еще, Федор Иванович вытащил рубль серебром.
– На, голубушка, возьми! Только ты поди, обменяй, возьмешь себе пяток копеек, а остальное принесешь. Я здесь постою, подожду тебя.
Ветер, сырой и холодный, беспокойно трепал его седые волосы – он зачем-то снял шапку и держал ее в руке. Теплое пальто не спасало от промозглой погоды, от петербургской атмосферы, вызывающей у Тютчева содрогание, особенно в зимнюю пору. Он не любил это место, этот чиновный, каменный, угрюмый город и мог бы сравнить свою нелюбовь с ненавистью белки к колесу, которое та принуждена вертеть ежедневно. Колесо и столица были схожи, ведь в обоих случаях их нельзя было покинуть, по крайней мере, по своей воле.
Холод отвлекал, мешал думать. Федор Иванович сделал несколько шагов вперед, чтобы согреться. Снег, выпавший накануне, хотя и празднично искрился, однако противно скрипел под башмаками – его еще не успели его почистить и на тротуарах прохожие вытоптали широкие тропинки.
Пока не появилась нищенка Тютчев вновь заняться своими мыслями, только уже не о цензуре. Ему припомнился недавний разговор в Москве с мужем сестры Николаем Ивановичем Сушковым о стране, в которой они жили, о России. Тогда у них возник горячий спор по поводу ее истории, происхождении царской власти, о Смутном времени, поставившем Россию на грань катастрофы. Победы и поражения русских, по мнению Тютчева, зависели не от божьего промысла, не от выпавшего случая, а от вполне конкретных людей, от их намерений, от алчности или благородных порывов, присущих властителям. Сушков же считал иначе.
Тютчев надел шапку на замерзающую голову.
Он задумался о России, об огромной равнине, раскинувшейся между морями и горами, о суровом климате, жестких, неуживчивых людях. Именно в территории, в ее бескрайности и неоглядной шири, в ее непроходимых лесах и разливных реках виделись ему колоссальные беды, проистекающие для страны. Великая скифская равнина, на которой они жили, казалась ему непреодолимым препятствием ко всеобщему благоденствию и прогрессу.
В памяти внезапно возникло именно это слово – прогресс, хотя его и намерены были запретить к употреблению. Оно раздражало государя. Но дело состояло даже не в прогрессе, дело было в той исторической миссии, которая отведена России.
Миссия заключалась в объединении всего христианского мира на новых началах – добра и справедливости, а именно этой миссии препятствовало обширное пространство, дарованное то ли Богом, то ли добытое трудами неуживчивых предков. Слишком много сил приходилось тратить на эти холодные земли, слишком много жизней уходило, чтобы сохранить огонь в очаге.
Так мнилось ему, человеку, прожившему немалую толику жизни на тесном, ограниченном пространстве Германии, Франции и Италии, человеку, понимавшему западный мир изнутри.
– Федор Иванович, что делаете здесь в такую холодную пору? – кто-то окликнул его, – ждете кого?
Тютчев оглянулся. Похрустывая снегом, к нему приближался незнакомый мужчины, закутанный до подбородка в зимнюю шубу с бобровым воротником. Нищенки с серебряным рублем, конечно, простыл и след.
– Задумался, – рассеянно ответил Тютчев, приглядываясь к прохожему и не узнавая его.
Историю о пропавшем серебряном рубле Федор Иванович впоследствии поведал Эрнестине Федоровне и та, будучи хозяйственной и бережливой женой, с осуждением качнула головой, но по обыкновению промолчала. Да и что тут скажешь, если и в преклонном возрасте ее супруг продолжал оставаться наивным дитятей.
Скандал в Смольном
Эконом Смольного института Константин Гаттеберг, худощавый пронырливый субъект, потирая время от времени левую оплывшую щеку, сидел перед Марией Павловной Леонтьевой, директрисой, статс-дамой двора его Величества. Щека болезненно ныла. Огромный синяк сизовел во весь глаз, набирая цвет.
За спиной Леонтьевой высились два молчаливых камердинера, с которыми она почти не расставалась в течение дня; один из них держал в руках небольшую берестяную коробочку.
– Итак, сударь, что же случилось? – любопытствовала статс-дама, ощупывая своего эконома большими совиными глазами. Уже некоторое время она замечала, что с Лелей Денисьевой, племянницей ее уважаемой и старейшей инспектрисы Анны Дмитриевны, не все в порядке. Ей казалось, что фигура молодой Денисьевой несколько отяжелела, а живот подозрительно округлился. Леля порою делалась бледна, как смерть и часто покидала общество, ссылаясь на женские недомогания.
Но все женские недомогания были известны Леонтьевой наперечет, ее не проведешь! Уж она-то знает, в чем дело! Вероятно, Денисьева забеременела, ведь директрисе хорошо известны подобные истории – как-никак, а заведением она управляла без малого десять лет. Раньше таковые случаи разрешались быстро: находились женихи, играли свадьбы и fine della storia17.
Теперь ей, уважаемой в свете, благопристойной даме, следовало выяснить, кто же стоял за легкомысленной интрижкой, кто будет готов принять на себя жертвенный венец жениха, чтобы спасти от бесчестья непорочную девицу. Она, мадам директриса, не позволит бросить пятно на вверенное ей заведение. Да что там пятно, даже тень от солнца!
Для этих, вполне разумных целей, преследующих в первую очередь нравственность, Леонтьева и отрядила своего эконома. К тому же, и это она знала достаточно хорошо, государь не терпел скандалов, не любил выносить сор из избы. Сам почти тридцать лет на престоле, а никто не мог бы его упрекнуть в непристойном поведении.