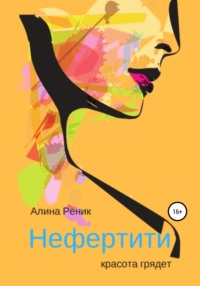Полная версия
В лабиринтах вечности
Но любую восторженность Настя принимала совершенно спокойно, словно это все относилось не к ней, лишь от острых женских взоров, что ревниво скользили за ней, её бросало в дрожь. В них она чувствовала некую враждебность и неприязнь, и потому интуитивно выше поднимала голову. Ей было легче ограждать себя неприступностью, чем каждый раз испытывать этот неприятный холодок от женских колких, пронизывающих ее насквозь взглядов.
Но именно женщины частенько провожая ее взглядом, восклицали:
– Какая непринуждённая грация! Как держит голову! В этой девочке чувствуется порода!
Слыша это, Настя мысленно улыбалась:
– Да, уж, как же! Откуда во мне детдомовской девчонке, без роду и племени, взяться даровитой грации? Порода!? Ага! Да вот только какая?
Если раньше не придавала значения собственной персоне, то сейчас, в музее, и тем более. Здесь она буквально растворилась в великолепии настоящих сокровищ!
Хотя, вероятно, ее интерес отличался от обычного туристического, и в значение слов «ценности» или «сокровища» она вкладывала немного иной смысл. Так, золото Тутанхамона для нее истинным сокровищем не являлось. Да – золото, да – бесценно, да – прекрасный образчик красоты и мастерства древних мастеров, но кроме картушей с именем Тутанхамона и его жены Анхесенамон нет ни одного исторического документа, ни одного папируса, что мог бы пролить свет на время царствования самого Тутанхамона. Для Насти «сокровищем» в музее было всё, кроме золота как Тутанхамона, так и всего прочего.
Но, как над священными реликвиями, она замирала от восторга над папирусами и глиняными черепками, над алебастровыми вазами и медными тарелочками, над гранитными саркофагами и деревянными канопами.
В музее время, в прямом понимании, для нее перестало существовать, оно стало явственно, буквально осязаемо – время сыпалось, как в песочных часах, песчинка за песчинкой. Порой ей даже казалось, что она отчетливо слышит этот шорох песка (или шорох прошедших веков). И он – таинственный шорох – усилился, когда она подходила к залу с мумиями, словно засвистели мимо нее в бешеном вихре, пролетевшие над миром века…
Настя остановилась у высоких, почти в три метра в высоту, тёмных резных дверей с медными ручками. Женщина в хиджабе возникла перед ней так внезапно, что Настя вздрогнула, и робко протянула входной билетик в зал. Женщина, точно страж, преградив ей вход, и буквально просверлив Настю черными глазами, даже не глянув на протянутый билет, неожиданно, подобострастно склонилась, прошептала что– то на арабском языке, и тихонечко приоткрыла дверь.
«Как врата в загробный мир открыла!» – подумала Настя, проходя мимо нее в полутемный зал.
О, мумии – великолепные капсулы времени!
Раньше Насте казалось, что она обязательно почувствует чудовищную пропасть между собой и теми, кто жил тысячелетия назад. Но оказавшись здесь, где в стеклянных саркофагах ровными рядками, покоились мумии, испытала лишь острый приступ жалости к ним, к людям, жившим так далеко, и так близко (всего каких-то три – четыре тысячи лет назад)!
Она осторожно ступала среди саркофагов, всматривалась в них…, и щемящее чувство жалости наполняло ее. С каждым взглядом на очередную мумию ей становилось все тяжелей дышать. Глядя на эти иссушенные, потемневшие, со впалыми глазницами человеческие останки, ей вдруг захотелось пить, и необъяснимая жажда с каждой секундой все настойчивее заявляла о себе. Нестерпимо мучительная жажда! Жгучая, выжигающая все изнутри жажда! Казалось, что каждая клеточка тела иссыхает, сжимается, словно, глядя на мумии, Настя сама превращалась в нечто подобное. Настолько отчетливо чувствовалось, как тело иссыхает, сжимается, чернеет – плоть превращается в тлен, – что сердце заныло, задавило, а в голове застучала глухим молоточком пульсирующая кровь:
– Прочь от сюда, прочь…! Прочь…!
Она не прошла и половины зала, как резко повернулась и торопливо зашагала, почти побежала назад, к выходу.
– Прочь! Прочь!
Душил безотчетный страх. Старалась не смотреть на мумии, но, даже несмотря на них, видела всех и всё: и впалые глазницы на почерневших от времени лицах, и высохшие скрещенные на груди руки, что когда-то сжимали символы власти, видела и ногти на этих руках – большие…, желтые…
Вдруг совершенно случайно, (случайно ли?) взглядом наткнулась на стеклянный саркофаг, остановилась…, уставилась в него, и изумление холодной иглой кольнуло в сердце, словно мумия в нем была какая-то другая, особенная! С этой мумией явно что-то было не так! Мумия отличалась от остальных красотой и невероятным спокойствием. И вот именно это спокойствие на лице «уснувшего фараона» и поразило ее сейчас. Настя узнала эту мумию, но все равно взглядом скользнула по этикетке.
– «Фараон Сети I». Как он спокоен! Красив! Наверное, это самая красивая мумия! Посмотри, да он улыбается! Он улыбается тебе, – восторженно бормотала Настя. И неожиданно, как там, в самолете, внутренний голос тихонечко шепнул ей: «Взгляни на Рамсеса».
Она стремительно оглянулась на стоящий рядом стеклянный саркофаг, именно на тот, где покоился прах Рамсеса второго, как, если бы в эти доли секунды она знала, где он находится. И от неожиданности вздрогнула.
– Он!
Ее ударило как электрическим током.
– Рамсес!!!
Прижимая руки к груди, она застыла, не в силах справиться с непонятным для нее состоянием…, потом склонилась над ним низко-низко…, бровки в страдальческом взлете…, глаза наполнились слезами – ее давил безотчетный, душераздирающий приступ жалости к нему! Почему? Она этого не знала, но только еле сдерживалась, чтобы не разрыдаться и не упасть рядом на колени!
Мумия Рамсеса II была торжественна, правда, не так красива, как Сети I – его отца, но всё же в ней было что-то, что заставило Настю почти прильнуть к стеклянному саркофагу. Горделивый профиль и царственное величие – Фараон знал – смерть лишь переход туда, где время не властно. И он спокоен – у него есть всё для дальней дороги по бесконечным мирам.
В ее сознании вдруг промелькнула странная мысль:
– Горделив он и безмятежен, но в его облике есть нечто неуловимое, беспокойное, будто что-то раздирало изнутри и надрывало ему душу в последние минуты его жизни.
Эта «случайная» мысль заставила Настю ещё больше склониться над саркофагом, так близко, насколько это было возможно.
Разглядывая мумию, она вдруг уловила движение тени, что было прошла мимо, вернулась и остановилась рядом. От неожиданности Настя вздрогнула, выпрямилась, и, думая, что это смотритель музея, оправдываясь, промямлила:
– Я… я просто хотела поближе рассмотреть… Рамсеса. У него такой необычный жест… – она едва нашлась, что сказать, указывая на высохшую руку фараона, что возвышалась над самой мумией.
– …Хе-хе… – кашлянула в кулак «тень» (не смотритель, но и не турист, какой – то учёный, – отметила Настя), – … когда мумию впервые извлекли из саркофага и распеленали, то рука фараона резко поднялась и так вот и осталась, как последнее приветствие этому миру!
Брови ее выразительно приподнялись. Она покосилась на Рамсеса. «Возможно, он хотел предостеречь нас?!» А мужчина, многозначительно помолчав, сказал, как прочел её мысли…
– Предостеречь… нас – потомков?!
– Брр-р-р, жуть-то, какая! – передёрнула она плечами, только представив, каково было тем, кто присутствовал при этом.
Вдруг ей показалось, что палец мумии дёрнулся – поманил к себе или (пригрозил?!)
– Ой! – вздрогнула Настя, ладонью прикрывая рот, – палец дёрнулся!
– Ну, что Вы! Вам показалось… – нараспев произнес араб.
Уж очень сладко он это пропел, и, чуть склонившись в поклоне, на секунду заглянув ей в глаза, прошептал с еще большим подобострастием и придыханием, отчего Настю бросило в дрожь. Она не успела осознать – всё было настолько мимолетно, – но его слова, как мантра, засели в ее мозгу, разрывая своей несуразностью:
– …Великий Рамсес, Усер – Маат – Ра, простил… Вас!
Глава четвертая
В лабиринте времени
I
В 21 день второго месяца разлива Хапи 67 года, при царе Верхнего и Нижнего Египта Усер-Маат-Ра, Сотеп-эн-Ра, сыне Ра, Рамсесе Мериамоне, одаренному жизнью навеки веков.
– Сними, – фараон болезненно поморщился, – сними, не могу больше.
Он устало склонил голову, давая слуге снять с него тяжелую корону Атеф.
Рыжие с сизой проседью пряди упали на испещренный глубокими морщинами лоб. Старик попытался убрать волосы, чуть приподнял руку, но остановился. Каждое движение доставляло ему нестерпимую боль.
Скривился от боли. Рука безвольно упала на колено.
– Холодно, – просипел он и покосился на длинный ряд богов, что каменными изваяниями выстроились вдоль стены, прошептал чуть слышно, – страшно…
Верный слуга склонился над ним, точно закрывая хозяина своим телом от гневных взглядов каменных истуканов, и, как верный пес, стал следить за стариком преданным взглядом.
– Как холодно… как страшно… очень страшно! Врата разверзлись…, и я должен войти…
Старик замолчал – боялся думать о суде Осириса. Да вот только ничего другое уже и не ждало впереди. Он и так задержался в земной жизни – давно его Солнечная Ладья была готова к Последнему Пути. Но лишь от одной мысли, что скоро предстанет перед Высшим Судом, мороз бежал по его и без того холодным венам.
Как всех грешников (а фараон знал – он грешен), его мучил лишь один вопрос.
– Позволят ли мне войти? – спрашивал богов.
Спрашивал и слугу, как, если бы тот знал ответ.
Боги молчали.
Слуга отвечал:
– Да, Владыка, позволят!
Старик ненадолго успокаивался, забывался.
Но только сегодня подобный ответ не успокоил, не дал прежнего забвения, а лишь еще больше раззадорил и пробудил в нем страшные мысли.
– Мне будет позволено войти, а моя девочка, моя несчастная девочка не может даже переступить порога вечности – она так и не достигла Дуата. Она стоит у врат одна-одинешенька и не может войти! В этом повинен я! Что я наделал!? – старик закрыл лицо трясущимися руками, заплакал. – Что я наделал!?
Мысли старика путались, кружили в темных лабиринтах прожитых лет, где осталась лишь чернота и горечь, а рядом его любимое дитя ищет выход в другой мир.
Но нет для неё выхода.
Не существует!
У его самой любимой дочери нет даже погребения!
У неё даже смерти нет!
И он…
Он – отец – повинен в этом! Тогда, много лет назад, он не услышал за стеной собственного гнева мольбу её души, крик ее сердца!
И его сердце было камнем и в нём не было места для любви и понимания.
В те страшные дни он слышал лишь шипение змей, что клубились у его ног – жены, наложницы, кормилицы.
Они все жаждали её смерти.
Против его дочери ополчились все: жёны – нильские утки и многочисленные дети – целый выводок детей! Он даже не мог вспомнить их лица. Они были для него все безлики и безымянны. Один сплошной ком. А как можно запомнить целую сотню почти одинаковых на лик детей? Лишь тех, кто поноровистей, кто больше других желает получить от него цеп и посох – символы власти, только их он и помнит.
Старик содрогнулся:
– О, Амон-Ра, сколько их!? Сколько у меня детей? О, Минт, дарующий мужскую силу, ты был ко мне Благосклонен, но зачем мне столько детей, если я даже не могу знать их всех?!
– Твои сыновья продолжат твой путь…, – начал, было, слуга, но старик лишь раздраженно скорчил гримасу.
– Замолчи! Их ежедневное шипенье заставляет меня мечтать о смерти. – Старик закрыл глаза и медленно – видно каждое движение причиняло ему острую боль – запрокинул голову назад и уперся лысеющим затылком в высокую спинку золотого трона. – Ох, смерть – это лучшее избавление от них! А-а… все и так давно ждут моей смерти! И каждый мыслит себя на царство! Ждут! – закряхтел старик.
Закашлялся…
Из груди вырвался свист со стоном.
– Ждут моей смерти! А больше всех этот вездесущий Мернептах – «Возлюбленный Птахом». Моя девочка никогда не желала моей смерти! Она любила меня! Она любила всех и была Светом! Светом звезды! Она принадлежала другому миру. И должна была жить вечно… – Старик заскрипел еще больше, вновь зашелся кашлем. Высохшее тело старика казалось, вот-вот расколется надвое.
Раб поднес хозяину золотой кубок с лечебной настойкой, но он отвел его руку и, чуть отдышавшись, снова сдавленно застонал.
Его никак не отпускала вина. Он давился ею, захлебывался и если бы мог, то отдал бы сейчас свою бессмертную душу только для того, чтобы искупить вину перед дочерью.
– Что я наделал? Что я наделал? Доченька! Могу ли я хоть как-то облегчить твою участь вечной странницы? Могу ли? Доченька…
Старик уронил голову на грудь, в страдальческой муке сомкнул очи.
Тяжелое дыхание с шумом вырывалось из груди.
Уже каждый вздох был в тягость и причинял нестерпимую боль.
– Моя девочка, я помогу тебе… помогу…, и мы встретимся… – тревожно сипло прокряхтел старик, покачиваясь из стороны в сторону, черепашьи глаза заслезились (он уже не скрывал своих слёз и не стыдился их). – Они хотят власти, пусть получают! А я…, а я… Я иду к моей девочке… Без неё у моего народа нет Будущего, всё погибнет и будет тлеть…
Фараон плакал и бормотал, порываясь идти к ней, к любимой дочери в царство Осириса, а раб со слезами на глазах поглаживал его руки, стараясь успокоить и удержать старика.
Вдруг фараон встрепенулся. Просипел решительно.
– Я готов к Суду! Готов!
Просипел и, изменившись лицом, стал, в самом деле, походить на старого доблестного воина, но еще уверенного в собственной силе, и в способности всё исправить. Рабу показалось, что старик почти перестал сипеть, корчиться от раздирающей его изнутри боли и даже приосанился.
Лицо фараона озарилось надеждой. Казалось, старик способен одной своей волей повернуть время вспять и всё исправить там, в далеком прошлом.
Но вдруг он замер, как окаменел – и слезы перестали струиться из черепашьих глаз. В старческом уже размякшем мозгу промелькнула, возможно, последняя мысль, но какая страшная мысль, страшней кары Богов! «Мне не пройти Суд Осириса! Не ответить на вопросы! Я совершил самый страшный грех – я лишил жизни своё дитя – и меня сожрёт это чудовище, пожирающее грешников! Меня сожрёт Аменуит!»
На пороге вечного пути человек оценивает свою жизнь. И многих охватывает ужас не оттого, что не совершено или наоборот сделано, ужас от невозможности исправить, изменить или предотвратить страшное. Только чувствуя хлад вечности за спиной, каждый понимает, что в его жизни было сделано не так, где оступился и какой беды он виновник, а до этого момента мы перед собой и собственной судьбой чисты и святы.
Но вот только этот старик понял свою ошибку – страшную ошибку – гораздо раньше, и вот уже многие годы он замаливал её и выпрашивал милости богов.
Милости не для себя.
Нет!
Просил у богов милости для неё, для своей единственно любимой дочери Нефер-Кемет.
Он вымаливал у богов милость – дать ей ещё одну Земную Жизнь, и готов был жертвовать самым дорогим – своей вечной жизнью – лишь бы его дочь могла вступить в Вечность, как подобает человеку – с погребением и именем.
Но боги молчали и мучили его своей чудовищной глухотой. Они наслаждались его терзаниями, наказывая долгой жизнью, слишком долгой, чтобы он испил сполна ядовитую чащу горького раскаянья.
Он страдал каждый день, каждый миг, прожитый с тех страшных дней, когда гордыня возобладала над разумом, над сердцем, над законами человеческого бытия. И теперь душа терзалась, не находя покоя и оправдания содеянного.
– Сожрёт Аменуит! – повторил Старик и содрогнулся. Весь его воинствующий вид вдруг сменился видом уставшего от жизни человека. Безумная усталость! О, как он устал! Он сжался, но не от холода, а от страха перед настойчиво омерзительными воспоминаниями.
Посмотрел невидящим взглядом.
Где он? Жив ли ещё? Есть ли время исправить? Трясущаяся голова старика безвольно клонилась. Успею?
Нет!
Уже нет…
Заметил слугу у своих ног, что преданней пса следил за душевными муками и уходящей жизнью хозяина, одними губами чуть слышно прошептал ему:
– Запиши… на Исполняющем Желание… мою последнюю волю…
Слуга подорвался, соколом подлетел к писцу, выхватил у него папирус, тушь и палочку – стилос и в мгновение ока вновь был у ног старика.
Тихое «Владыка, я готов» не слетело с его губ, он лишь ждал, терпеливо ждал, когда старик наберется сил повелевать, как повелевал почти семьдесят лет, а по впалым щекам раба стекали крупные слезы. Он знал – это последняя воля Божественного:
– Я Усер-Маат-Ра, царь царей…
II
Каир. 1985 год. 4 июля. 18 часов
– Усер-Маат-Ра! – Задумчиво прошептала Настя, обводя пальцем вырезанный в гранитном постаменте картуш фараона.
Прошло более пяти часов, но Настя не чувствовала этого. В Музее время – песок. Она бродила по залам, бродила от экспоната к экспонату с удивительным чувством причастности ко всему, что видела. Даже не читая этикеток – знала все эти артефакты, и знала их хорошо. И чувствовала, что в этом узнавании артефактов было ещё что-то, более весомое, чем просто академическое, книжное знание. Украдкой дотрагиваясь до базальтовых саркофагов или гранитных статуй, испытывая удивительное состояние – причастности к ним, к этим весточкам из тьмы веков. Так становилось весело от почти родных, очень родных и таких близких памятников древности, что она замурлыкала какую-то необычную мелодию и шагала по залам, мимолетным взглядом окидывая экспонаты, мысленно здороваясь с каждой статуей, с каждым клочком папируса, улыбалась им всем – своим любимым и таким родным сокровищам из прошлого.
Внезапно на стене в витринной нише она заметила диск…
Шок! Перед ней было «нечто», что никак не вязалось с тем, что она знала, и не ложилось ни в одну из плоскостей ею известного. Удивительный диск! На этикетке надпись: «обрабатывающий камень для гранита…»! Всего лишь «обрабатывающий камень»! Но это название так диссонировало с тем, что собой представлял экспонат – каменный диск! Уж, слишком сложная форма для бронзового века! слишком четкие грани! По дате диск в несколько раз старше самих пирамид, но четкость линий такая, как, если бы его произвели на очень сложном, в техническом плане, станке. Диск имел фантастический, инопланетный вид! Если бы подобный «космодиск» находился среди экспонатов планетария или музея уфологии с красноречивой табличкой «диск для обработки камня… с созвездия Орион… или созвездия Большого Пса», то она, наверняка, и не удивилась бы, а лишь всплеснула руками, – Ну, надо же, такая диковинная штука! Какая четкость линий! – и преисполнилась бы восторгом.
Но в Каирском музее, где собраны древние артефакты, такой диск – просто немыслимый экспонат! Она обернулась, поискав глазами поддержки у окружающих, видит ли кто столь удивительный и неуместный здесь экспонат?!
Нет!
«Нет, никто не видит!» – печально подумала она, и, склонилась над диском, рассматривая его так тщательно, как криминалист изучает орудие убийства на месте преступления. Она пыталась найти хотя бы одну объяснимую зацепочку для собственных противоречивых мыслей и выводов!
Но…
Но отчего-то под ложечкой засосало, сердце учащенно забилось. Она ощущала странное: и мороз, и горячую волну по всему телу, и предчувствие – опять это странное предчувствие(!), – что вот сейчас произойдёт нечто таинственное, что изменит все: и ее мировоззрение, и, возможно, и всю ее жизнь, но…
…Сознание опять блуждает в лабиринте, и она явственно ощущает себя, как она в длиннющем темном коридоре, идет, вытянув перед собой руки, натыкается на углы и стены… и дверь вот-вот должна открыться… Но какая это дверь? Куда? Сможет ли она войти? Сможет ли разгадать тайну этого странного космодиска? И откуда он?!
– Ох, хватит, – Настя усилием воли остановила безумный бег мыслей, прошептала, – Хватит! Это всего лишь «диск для обработки гранита»!
И тут же язвительно добавила:
– Да, да диск для обработки гранита! Но… как древние египтяне, у которых всего-то инструмента, что базальтовые молотки да зубила, как они без специального оборудования могли исполнить такой сложный «диск для обработки гранита»? А главное зачем?
Вдруг мелькнула острая пульсирующая волна узнавания – явственного такого узнавания…
– Я уже видела этот «космодиск»! Я его уже видела! Где? Когда?
…Одна из дверей в длинном коридоре сознания чуть было приоткрылась и готова была ее впустить, но она не смогла распознать путь, не смогла протянуть руку и ухватиться за невидимый косяк двери и хоть как-то удержаться, она чего-то не знала…, или не вспомнила…, не могла вспомнить, – и таинственная дверь тотчас захлопнулась. Все это мимолетным видением промелькнуло где-то глубоко в подсознании, в каком-то отдаленном его уголке. Видение, как укол иголочкой – краткое, мимолетное, но уж слишком отчетливое. Было ли все на самом деле, она не смогла бы сказать, но с ней происходило что-то необъяснимое: некое сумасшествие – некая сумятица – глаза безотчетно забегали с экспоната на экспонат…
«Может хоть что-нибудь да подскажет, что мне искать…»
Она искала подсказку, искала некую «дверь», в которую войдет, но ничего уже не происходило. Двери не открывались, а она стояла в длинном коридоре, и лишь ощущение света наполняло ее все больше, лишь предчувствие, что разгадка близка, за одной из тех дверей в длинном и уже очень темном коридоре. Возможно, эти двери в Различные Миры, но ведут они к одному, и они связаны между собой одной нитью… – вдруг отчетливо так блеснула мысль, – «Как Нить Ариадны».
– Ну, да ещё скажи: Минотавр, Минойская культура, Лабиринты Кносса, Шлиман, Атлантида… Что это я сваливаю все в одну кучу!?
От напряженного погружения в какой-то неведомый для неё мир, ей стало тяжело дышать…, стало так тяжело, как, если бы её накрыли могильной плитой – ноги подкосились, она опустилась на пол, обхватила колени, тихо заплакала…
Она плакала от безысходности, от ужасного состояния непонимания: не могла понять, что происходит с ней, и куда постоянно «проваливается»? А ещё чувствовала, бессознательно чувствовала – вокруг нее что-то происходит, как, если бы ей хотели, но не решались сказать что-то очень важное, не решались открыть для нее Истину. И она не может понять, не может отыскать и открыть ту самую дверь, за которой найдет ответ, за которой и есть та самая Истина. Она лишь видела себя с плотно завязанными глазами, с вытянутыми вперед руками, идущей в густом тумане по длинному лабиринту. А в нём только закрытые высоченные старинные двери с медными массивными скобами…
…Вновь мысль иголочкой в глубине сознания: «А если все двери ведут к одной Цели?»
Но как мысль возникала молнией глубоко в сознании, так и тонула там, угасая – свет путеводной нити обрывался в лабиринтах сознания…
…Настя провалилась в сон, сидя прямо на полу, обхватив колени. Она походила на одну из кубических гранитных статуй, что стояли рядом на постаментах в зале музея.
И снилось ей удивительное! Всадник – красивый юноша с глазами изумрудного цвета, – со взглядом нежным и ласковым. Гнедая лошадь под ним пританцовывала, а юноша смотрел с высоты и в его лучистом взгляде было столько нежности, что все тайны Вселенной как-то сами собой улетучились, или стали не такими уж значимыми, но только Насте от чего-то стало спокойно на сердце и сразу оказались безразличны все эти загадки истории. Весь мир сузился до небольшого сияющего кружка, в котором были лишь глаза зеленоглазого всадника.
Глава пятая
Что это значит?
I
Каир. 1985. 4 июля. 19.30
Настя вернулась опустошенная. Упала в кресло, словно в ее теле вовсе не было позвоночника – съёжилась, сжалась, уставилась в одну точку.
Не будь этой необъяснимой, просто сумасшедшей эмоциональной усталости она, наверняка, смогла бы рассказать Ане, как минуту назад почти у дверей отеля она чуть не попала под машину. Арабский юноша в белом балахоне бросился ей навстречу, резко толкнул ее в сторону – машина пролетела в десяти сантиметрах от неё. Она даже не успела испугаться и не придала этому значения или, возможно, была так занята великими открытиями и смутными предчувствиями Откровения, что не обратила внимания на подобную мелочь. Или просто она устала? Устала, как если бы посещение музея опустошило и высосало всю ее жизненную энергию?
– Что с тобой? – спросила Аня, озадаченная внешним видом подруги, – ты похожа на старуху. Что случилось?
Настя промолчала.
Аня хмыкнула, мол, не хочешь разговаривать, ну и ладно! Пока Настя исследовала музей и тратила драгоценное время на всякий там «исторический мусор», она же время зря не теряла, а как настоящий турист искала для себя самые настоящие приключения. Спустилась в холл, посидела на огромных белых диванах, наблюдая за туристами, приметила двух рыжих шотландцев в клетчатых юбках – килтах, улыбнулась им, познакомилась, посмеялись, выпили по чашечке душистого чая. Затем она решила погулять по набережной Нила, зашла в несколько магазинчиков, купила папирус и скарабея, на обратном пути хотела было зайти в мечеть, но старенький сухонький араб, зло шикнув, замахнулся на нее костылем. Но даже он не смог испортить ей добродушного настроения… Она с интересом оглядела мечеть снаружи и, не найдя в ней каких-либо красот, а лишь отметив для себя, что в Ташкенте самая маленькая и неказистая мечеть – медресе Кукельдаш в сто раз красивей этой, с легким сердцем повернула обратно в гостиницу…