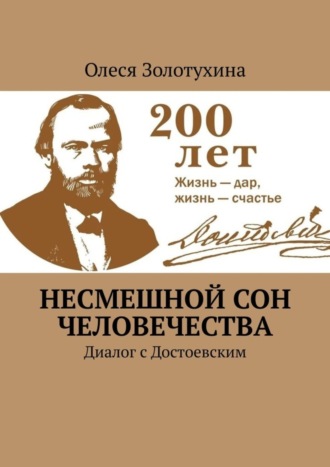
Полная версия
Несмешной сон человечества. Диалог с Достоевским
Достоевский – очень светоносный писатель. Для меня очевидно, что не понимать и не чувствовать этого может только тот, кто не поднялся на тот уровень, на который поднимает читателя Достоевский. Для того, чтобы подчеркнуть светоносность Достоевского, я написала цикл «Из тьмы к Свету», который состоит из восьми стихотворений. Под каждым стихотворением написано, по мотивам какого произведения оно создано, конкретно указывается эпизод, который необходимо прочитать, чтобы понять специфику моего диалога с Достоевским. Обязательно нужно прочитать указанные мною произведения и их эпизоды и только потом знакомиться с моими стихотворениями.
Принципиально значимо, что во всех стихотворениях цикла обязательно присутствуют два образа: образ свечи и образ Христа. Согласно моей идеи, которая, как мне кажется, абсолютно адекватна Вселенной Достоевского, свеча символизирует слабый свет во тьме, но и его хватит, чтобы прийти к Христу. Христос был очень важен для Достоевского. Как утверждает Н. Бердяев, «через всю жизнь свою Достоевский пронес исключительное, единственное чувство Христа, какую-то исступленную любовь к лику Христа. Во имя Христа, из бесконечной любви к Христу порвал Достоевский с тем гуманистическим миром, пророком которого был Белинский. Вера Достоевского во Христа прошла через горнило всех сомнений и закалена в огне. <…> Вера в Христа выдержала все испытания. Он потерял гуманистическую веру в человека, но остался верен христианской вере в человека, углубил, укрепил и обогатил эту веру. И потому не мог быть Достоевский мрачным, безысходно-пессимистическим писателем10». Для своего цикла я постаралась отобрать именно те эпизоды из произведений Достоевского, где присутствует Христос. Это у меня получилось, за исключением сцен, по мотивам которых созданы два последних стихотворения «Признание» и «Воскресение», но, думаю, даже не очень глубоко понимающий творчество Достоевского читатель должен почувствовать, что в тех эпизодах, по мотивам которых написаны эти стихи, Христос однозначно присутствует имплицитно. Что же касается образа свечи, то его было добавить несложно, а в некоторых эпизодах он есть и у самого Достоевского и играет в них очень важную роль, как, например, в сцене чтения Соней Раскольникову о воскресении Лазаря. Таким образом, у меня получилось восемь стихотворений-свечей. Их я зажгла от Света, который нес людям светоносный писатель Ф. М. Достоевский, и они горят в память о нем.
Творчество Достоевского, как выше уже отмечалось, в целом особенно актуально для нашего времени, однако для цикла «Из тьмы к Свету» я попыталась отобрать наиболее злободневные эпизоды. Так, с позиции сегодняшнего дня в контексте обострения отношений России с миром Запада и, конкретно, с Европейским миром особую актуальность приобретает стихотворение «Золотой век человечества», написанное по мотивам романа Достоевского «Подросток», главы с описанием сна Версилова.
Стихи цикла «Из тьмы к Свету», написанные по мотивам произведений Достоевского, продолжают мой диалог с великим гением и являются, по сути, моей интерпретацией его творчества. Достоевский многое недосказывал, в связи с чем его произведения дают почву для появления большого количества трактовок. Я в своих стихотворениях попыталась не просто поэтически передать тексты Достоевского, но и художественно вложила туда свое понимание каждого текста.
Так, например, свою интерпретацию утопии, описанной Версиловым, я вложила в уста его сына Аркадия Долгорукого, и вынесла идею, с ней связанную, в эпиграф к стихотворению.
Другой пример художественного изложения моей интерпретации можно найти в стихотворении «Письмо сопернице». Я написала его по мотивам отрывков из писем Настасьи Филипповны Аглае, которые читает князь Мышкин и делает вывод о том, что они полны бреда: «И много, много было такого же бреду в этих письмах»11. Однако, на мой взгляд, текст этих писем вовсе не является бредом. Он очень важен, так как позволяет нам увидеть Настасью Филипповну не такой, какой она пытается быть на людях, надевая маску инфернальницы, падшей женщины, а такой, какой она является на самом деле: доброй, чуткой, ранимой, умеющей жить счастьем других людей. С точки зрения Н. Бердяева, в центре внимания Достоевского всегда только «мужская судьба. Женщина есть встретившаяся в этой судьбе трудность, она не сама по себе интересует Достоевского, а лишь как внутреннее явление мужской судьбы. <…> Судьба Мышкина и Рогожина интересует Достоевского, а Настасья Филипповна есть то, в чем осуществляется эта судьба. <…> Поэтому у Достоевского такой исключительный интерес к мужской душе и незначительный интерес к душе женской. По истории женской души нельзя проследить судьбы человеческой личности»12. Не могу согласиться с мнением Н. Бердяева. На мой взгляд, в своем творчестве Достоевский выступил блестящим психологом и психологически достоверно изобразил не только мужские, но и женские души, что делает ему особую честь как писателю мужского пола. Письма Настасьи Филипповны Аглае и образ Христа, появляющийся в них, позволяют нам понять основную причину вызывающего поведения героини и ее метаний: считая себя падшей, она чувствует себя недостойной Христа и не может простить себя за это. В этом я вижу и причину того, что Настасья Филипповна, любя, отталкивает чистого князя Мышкина, считая себя недостойной его, и почти обожествляет избранную Мышкиным Аглаю, так как, по ее мнению, чистый князь полюбил ту, которая, конечно, более его достойна, чем такая падшая женщина, как она. В письмах Настасьи Филипповны не бред, а боль чистой души, попавшей волей злой судьбы в грязь и вследствие своей чистоты не сумевшей простить себя за это. Именно эту идею я прочла в подтексте Достоевского и ярко выразила в своем стихотворении.
Есть в моих стихах и сюжетные повороты, которых нет у Достоевского, но которые я ввела в свой текст именно с позиции нашего времени, Времени Жатвы, времени необходимости четкого выбора между тьмой и Светом.
Например, в моем стихотворении «Мертвый Христос в гробу» Рогожин, обменявшись с Мышкиным крестами, возвращается в свой дом и внимательно рассматривает картину Гольбейна. Данного поворота сюжета нет в тексте Достоевского. Картина Гольбейна «Мертвый Христос в гробу» играет очень важную роль в романе «Идиот». С моей точки зрения, она символизирует здесь Божий образ, который под влиянием эгоистических страстей умер во всех героях романа, кроме Мышкина, и, казалось бы, данная картина не дает никому никаких шансов на воскресение. Однако и здесь оказывается всё не так просто, поскольку, как утверждают некоторые исследователи творчества Достоевского, картина Гольбейна вовсе не призвана убивать в людях веру. С точки зрения В. Н. Захарова, «Гольбейн явил образ Христа в преддверии воскресения. Это уже не мертвый Христос, но Тот, чье тело уже пронзила первая искра воскресения. <…> В картине нет одоления небытия сознанием умершего – все свершается по воле Всевышнего, „по воле Бога самого“. Художник передал это непостижимое одоление смерти. Собственно, в этом и заключается парадокс картины, ее художественная правда. Картина Гольбейна свидетельствует не о смерти, а о воскресении Христа»13. В моем стихотворении Рогожин, проводив князя Мышкина, возвращается к картине Гольбейна и видит ее иначе, чем обычно, что переворачивает его душу и заставляет героя хотя бы на какое-то время выбрать Свет и почувствовать его живительное влияние. Читая роман, я задумалась, а могла ли быть такая альтернатива для героя, как вступление на путь Света, ведь его восприятие мира должно было измениться после обмена крестами с князем. В своем стихотворении я решила дать Рогожину такой шанс. И дело здесь не столько в том, что действительно заложил в своей картине Гольбейн, сколько в изменении восприятия данной картины Рогожиным вследствие произошедшего изменения в нем. Ведь если бы это изменение в герое тогда произошло, оно положило бы начало его воскресению, и финал истории мог бы быть совсем другим. И пусть Достоевский эксплицитно не дал своему герою шанс на воскресение, но, возможно, поместив картину в его доме, он заложил данную идею имплицитно. Я же данным поворотом сюжета утверждаю, что Рогожин все-таки мог вступить на путь воскресения, а главное, пытаюсь дать понять современным читателям, что у них всегда есть шанс выйти из тьмы к Свету.
Иной поворот сюжета по сравнению с текстом Достоевского можно найти и в моем стихотворении «Воскресение». Если у Достоевского Раскольников так и не раскрыл Евангелие на каторге, то в моем стихотворении он раскрыл его и при свете свечи стал читать отрывок из «Притчи о блудном сыне». Если Достоевский, четко наметив открывшийся для Раскольникова путь воскресения, оставил его лишь в начале пути, что породило научную, и не только, полемику по поводу того, состоится воскресение героя или нет, то Раскольников в моем стихотворении однозначно обратился к Христу, поняв значение Его великой жертвы для человечества, и воскрес для новой светоносной жизни. Финал моего стихотворения таков, потому что, в отличие от Достоевского, я пишу его не в XIX в., а в XXI в., во Время Жатвы, где каждому из нас пора сделать четкий выбор между тьмой и Светом и преодолеть свой внутренний раскол.
Последовательность восьми стихотворений цикла «Из тьмы к Свету» не связана ни с хронологией создания Достоевским тех произведений, по мотивам которых написаны стихи, ни с хронологией создания мною стихотворений, но она принципиально важна для понимания общей идеи цикла.
Таким образом, три части книги «Несмешной сон человечества: Диалог с Достоевским» содержат по восемь составляющих, образуя число 888 – число Христа. Символы, которыми заканчивается каждая из частей: Реки Жизни, Древо Жизни, Свет Жизни – являются крайне важными для понимания глубинных идей книги и связывают все три части в единое целое.
С точки зрения некоторых исследователей, которую я разделяю, творчество Достоевского явилось одним из высших достижений христианского реализма в мировой литературе. Как утверждает В. Н. Захаров, «Достоевский был первым, кто в своем творчестве сознательно поднялся до высот христианского реализма, назвав его „реализмом в высшем смысле“. Впрочем, сам Достоевский считал своим учителем на этом пути Пушкина и был особенно благодарен ему за уроки прозы в „Повестях покойного Ивана Петровича Белкина“»14. В своей монографии «Христианский реализм в повести А. С. Пушкина „Станционный смотритель“» по результатам анализа данной повести в православном контексте я выделяю основные черты христианского реализма как литературного направления, к числу которых отношу «обращение читателя к Богу, к Христу, открытие для читателя евангельских истин посредством художественного произведения»15. Несомненно, что в творчестве Достоевского данная черта проявилась особенно ярко. Своим творчеством Достоевский вел людей к Христу, к Богу. Для него не существовало иного вектора пути. Мои произведения, написанные как диалог с Достоевским, имеют ту же цель.
Произведения такого гениального автора, как Достоевский, всегда несут многосмысленность, а потому могут интерпретироваться по-разному. Я предлагаю читателям посредством моих произведений обратиться к произведениям Достоевского, присоединиться к нашему с ним диалогу, преобразуя его в полилог, поразмышлять над предложенными текстами, придумать свои интерпретации, задуматься о судьбе нашей планеты Земля и всего мироздания и, окунувшись в мою художественную Вселенную, появившуюся в результате постижения мною творчества Достоевского, пойти путем, который указывал в своих произведениях Достоевский, а вслед за ним в своих поэтических текстах указываю и я – выбрать Христа и через Него прийти в Царство Божие. Этот выбор особенно важно сделать сейчас, во Время Жатвы, ибо «жатва есть кончина века, а жнецы суть Ангелы» [Мф. 13: 39], и Время Жатвы подошло. Я очень надеюсь, что мои произведения, написанные в контексте диалога с Достоевским, помогут читателям сделать правильный выбор между тьмой и Светом и приведут большинство из них к Богу.
ПОЭМА О ХРИСТЕ
(по мотивам главы «Великий инквизитор» из романа Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы». Ч. 2. Книга 5 [V])
Часть 1. Явление
Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною,
Чтобы воздать каждому по делам его
[Откр. 22:12]
IИстория эта известна давно.
Была или нет – точно знать не дано,
Но явно могла бы случиться.
Жесток был в Севилье шестнадцатый век —
Столь много убили тогда человек,
Сожгли на кострах инквизиции.
IIПятнадцать веков уж минуло тому,
Как Он обещал возвратиться к нему —
К народу, что любит без меры.
Пятнадцать веков Его верные ждут.
Нет с неба залогов, но в сердце несут
Они пламень истинной веры.
IIIИ вот, сострадание чувствуя к ним,
Иисус возжелал вновь отправиться в мир,
Где предан был мукам крестовым.
О, это сошествие не было тем,
Что Он обещал свершить в славе Своей,
Пронзив молнией небо с востока.
IVОн людям явился – и именно там,
Где еретиков предавали кострам,
Где с властью на равных смерть встала.
На Землю сошел снова в образе том,
В котором давно приходил как Христос
И смертью Своей смерть попрал Он.
VНа жаркие стогны Севильи сошед,
Где в великолепнейшем автодафе
Жгли люд к вящей славе Господней,
Иисус незаметно и тихо возник,
Но люди узнали Его в тот же миг,
К ногам Его пали с мольбою.
VIС улыбкою Он молча шел средь людей,
И солнце любви, разгораясь сильней,
В Его чистом сердце лучилось.
И эти лучи сотрясали сердца
Любовью, которой не будет конца,
И в душах светло становилось.
VIIОн благословение людям давал,
Он к ним прикасался, Он их исцелял.
«Осанна», – толпа воскричала.
Вот с детства слепой восклицает старик:
«Господь, исцели, чтоб Тебя мне узрить», —
Вмиг с глаз пелена его спала.
VIIIИ плакал народ от Его доброты,
Бросали детишки под ноги цветы.
Дошли до собора Севильи.
И в эту минуту во храм гроб внесли.
Он видел, как плачут родные вдали —
Ребенка они хоронили.
IXОтец ее знатен, умершей семь лет,
И больше детей у родителей нет.
Христа о спасении мать молит.
«Дитя воскресит Он», – ликует народ.
На паперть к ногам Его ставится гроб.
«Девица, восстань!» – вновь Он молвит.
XИ девочка села во гробе в тот миг,
С улыбкой смотря удивленно на мир,
И глазки от счастья сияли.
В руках у нее был букет белых роз.
И поняли люди: пред ними Христос,
Сомнения в том все отпали.
XIВ народе смятение, рыдания, крик.
И в эту минуту высокий старик
На площади вдруг показался.
То был кардинал-инквизитор – прямой,
С иссохшим лицом, но из глаз шел огонь,
Зловещий огонь разгорался.
XIIВчера римской веры врагов он сжигал,
В прекрасных нарядах своих он предстал
Пред жалким, покорным народом.
Сегодня он в рясе монаха простой.
Давно уже здесь он стоял за толпой
И зрил воскресение из гроба.
XIIIТеперь же он вышел и встал пред людьми,
И отдал приказ, хмуря брови свои,
Чтоб стражи Иисуса пленили.
И вот такова была сила его,
Народ был приучен, забит до того,
Что сразу же все расступились.
XIVИ стражники быстро Христа увели.
Толпа же склонилась до самой земли
И пала к ногам кардинала.
Он мрачно смотрел на покорных людей.
Презрение к ним разгорелось сильней,
Толпа же о том не узнала.
Часть 2. Свобода
И познаете истину, и истина
сделает вас свободными
[Ин. 8:32]
IНастала севильская душная ночь.
Никто не пытался Иисусу помочь —
В темнице был заперт до срока.
А воздух лимоном и лавром так пах,
И весь этот город был в дивных цветах —
Прекрасен мир, созданный Богом!
IIНо вдруг отворилась железная дверь,
И, словно к добыче стремящийся зверь,
Крадучись, вошел инквизитор.
Светильник поставив, он встал пред Христом.
В темнице теперь они были вдвоем —
Земной и Небесный властитель.
III«Ты? Ты? Это Ты? Но молчи же, молчи!
Меня, как кинжалом, пронзают лучи
Любви, доброты, сострадания.
Мне это не нужно. Нет прав у Тебя
К тому, что сказал, ничего прибавлять.
Зачем же пришел Ты мешать нам?
IVПришел Ты мешать нам и знаешь о том.
А я осужу Тебя завтрашним днем —
Умрешь, вновь пройдя через муки.
Но знаешь ли Ты, что вот этот сброд весь —
Народ, за который взошел Ты на крест,
К костру подгребать станет угли?
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. – М.: Искусство, 1979. – 424 с.
2
Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. – М.: Искусство, 1979. – С. 331.
3
Круглова Т. С. Лирический диалог Цветаевой с Шекспиром как отражение ренессансного антропоцентризма // Вестник Костромского государственного университета им. Н. А. Некрасова. – 2010. – Т. 16. – №2. – С. 130.
4
Золотухина Олеся. Диалог с Шекспиром. Сонеты. – Красноярск: издательство «Буква Статейнова», 2019. – 344 с.
5
Впервые произведение опубликовано в книге: Золотухина Олеся. Мелодии Божественной любви: поэтические произведения. – Красноярск: ООО РПБ «Амальгама», 2020. – 168 стр.
6
Захаров В. Н. Имя автора – Достоевский. Очерк творчества. – М.: Издательство «Индрик», 2013. – С. 410.
7
Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. – М.: Искусство, 1979. – С. 331.
8
Митрополит Антоний (Храповицкий). В день памяти Достоевского // http://dugward.ru/library/mitr_antoniy/antoniy_v_den_pamyati_dostoevskogo.html
9
Бердяев Н. А. Миросозерцание Достоевского / Николай Бердяев. – М.: АСТ: АСТ МОСКВА: ХРАНИТЕЛЬ, 2006. – С. 22.
10
Бердяев Н. А. Миросозерцание Достоевского / Николай Бердяев. – М.: АСТ: АСТ МОСКВА: ХРАНИТЕЛЬ, 2006. – С. 22.
11
Достоевский Ф. М. Идиот: Роман. – М.: ООО «Издательство АСТ»; Харьков: Фолио, 2000. – С. 476.
12
Бердяев Н. А. Миросозерцание Достоевского / Николай Бердяев. – М.: АСТ: АСТ МОСКВА: ХРАНИТЕЛЬ, 2006. – С. 93—94.
13
Захаров В. Н. Имя автора – Достоевский. Очерк творчества. – М.: Издательство «Индрик», 2013. – С. 297.
14
Захаров В. Н. Проблемы исторической поэтики. Этнологические аспекты. – М.: Издательство «Индрик», 2012. – С. 175.
15
Золотухина О. Ю. Христианский реализм в повести А. С. Пушкина «Станционный смотритель»: монография. – Красноярск, 2020. – С 127.

