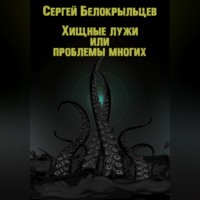Полная версия
Миразмы о Стразле
День оплачиваемого труда стартанул дивным сарказмом. Прикатила овчарня с товаром. Выкатываю машину-рохлю из воротины, посреди ямка. Быстро бы проскочить. Я по неопытности колесом встрял, на себя рванул, выдернул, но стальная скоба-тормоз среагировала и колесико захватила. А водила овчарни, мужичок шебушной, нервический, дёрганный, засуетился-заметался, доску откуда-то вынул и машину-рохлю поддел. Я лапу сую, скобу сдвинуть, а водила тут же доску перекувырнул-перекосоёбил в ручилах своих нервических и дёрганных. Доска-то, возьми, и выскользни. Машина-то, возьми, и придави мой указательный колесом. Я в спешке перст выдернул. Боли нет. Под ногтем кожа до розового мяса содрана. Тож самое на сгибе, меж второй и третьей фалангами. Рука моментально красной перчаткой облилась, словно соком каучуковым. Чё, заботливо вопрошает водила, кожу содрал?
Сука пузатая.
Кровищу смыл, далее трудовую деятельность веду, на кусок хлеба физически вкалываю. Рохлю с кейсами лимонада в грузовой лифт вкатил. Спустил нормально, поднял напротив. Рохля съехала и злосчастным колесом прямо в щель промеж кабиной и порогом как в лузу бильярдную. Лифт заклинило, порог колесом рохляным выгнуло. Я бэк-мэк. Чувствую себя беспомощным идиотиком. Злиться начинаю. Вызвали. Вызванный рохлю извлёк. Лифт снова готов употребляться. Заведующая сообщила зло, рохли в грузолифе нельзя перемещать. Я почему-то не знал этого.
Выжался в тот день до костей. Хавки-то не имелось. В обед две кружки чая с сахаром навернул. На закусь почитал плакаты с инструкциями-пожеланиями-провокациями типа “мы все одна семья” и прочей никому не нужной белибердой и враньём. Были бы семьёй, платили бы как родственнику любимому, а не как врагу заклятому. В зинки воткнулась фраза: “При очереди более 3-ёх человек заместитель директора или директор должен среагировать, прибыть к кассам, занять свободную кассу и приступить к обслуживанию покупателей до исчезновения очереди.” Прибыть и прочее понятно, но как зам директора должен среагировать? Начать бегать по торговому залу с воплями: “Очередь больше трёх человек – это ещё не самое страшное, поверьте моему опыту!”. Или нужно вытянуться по швам и спеть перед покупателями “Феличита”? Или исполнить “Аве Марию”, медленно поднимаясь на металлических лапах кара к потолку? Я бы кратче написал: “При возникновении очереди больше 3-ёх человек зам директора или директор обязаны приступить к её ликвидации”.
До вечера с пустым баком трудолюбно пыжился, в поту скользя. К вечеру посерел и зашатался от неудач и усталости. Хожу вдоль булок. В смысле, хлебного отдела. Наблюдаю вертлявую жопу какого-то парня. Я люблю иногда наблюдать жопы парней. Есть в этом что-то, я бы сказал, патриархальное. Смелость нравственная, вызов самому себе. Мол, бабы нравятся? А вот попробуй на мужскую задницу позинковать. Грят, запретный плод сладок.
Завязываю с самоглумлением. Заворачиваю за полки со всякой снедью, совершаю шаги и… она! Энда! Это независимое выражение лица я никогда не забуду! Злая-презлая. В ручилах своих овнистых с наивнимательнейшей быстротой вертит что-то. Так, наверное, стрекоза муху с садиским любопытством крутит. После съедает. Я аж попятился самопроизвольно и прыжком волшебным обратно сиганул, за стеллажом укрылся. В алкогольный отдел забился. Ногами перебираю, в водопадах эмоциональных купаясь. Соображаю, а если Энда заметила меня и за мной помчала? Заорёт: А, пьянь, в алкашке безвылазно обитаешь, запахом водки душу свою радуешь?! Я в сладости. Панически твержу, сам себя уверяю: Показалось! Показалось! Показалось! Ты ж ебучий параноик, тебе постоянно что-то кажется! По-любому померещилось!
Отдаю себе приказ: Иди и глянь, она это или не она. Иначе долго ещё загоняться будешь. Осмелев, выглянул из-за стеллажа половиной лица и одной зинкой. А взамен Энды какая-то старуха уже возвышается, в грязно-рыжем пальтишке, тощая и высокая, как жердь. Вытянутым куполом в платке цыганском над чёрным зефиром трясёт, в коричневых пальцах сморщенной кожи пакетом “Весенних пряников” шебуршит, как крыса бумажками в подполье. Подхожу к старухе, нюхаю. Пахнет валерьянкой и растлением малолетних. Вроде не её духи. Недобро кошусь на старуху. Старуха недобро косится на меня.
Рабдень слился.
Явление Энды посчитал самообманом, с устатку, на пустой бак. Иначе уверую, что обладаю экстрасенсорными способностями. А с подобной веры кукундель срывает с петель наглухо. И уносит его, и уносит его в звенящую снежную даль. Впрочем, в “Восьмую склянку” я так и не вернулся.
Улитка равнодушия
Тоска обернула содержимое черепушки в пемзу, забитую сором и дохлыми паучками. Сутки напролёт я анархически валялся на полатях. Анархия отупляла. Избыток свободы расковырял мою правую ноздрю в кровь. Потом левую. Независимость лишила баблоного хруста. Прерывистый ручей халтуры иссяк окончательно. Мысли пропали. Родные и близкие безмолвствовали, отгородившись непониманием. Не выдержав сепаратизма, я заходил в городских пространствах, добиваясь оплачиваемого труда.
Ковырянье в носу прилипчиво и прилично. Для меня. Я никому не показываю свои козявки, никому не предлагаю использовать их в своих интересах. В ответку не прошу козявок у ближнего своего и не ковыряю в чужих носах. Никогда не проси козявок и не пользуйся ноздрёй, тебе не принадлежащей. Господь бох дал тебе две ноздри, ими и обходись. Если господь бох отнял у тебя ноздри, значит они не нужны тебе. Возможно, они понадобились ему. Возможно, он проиграл свои ноздри в техасский покер или злоупотребил своим положением. А вообще я в него не верю. И ему не советую.
Ещё алкалось сношений, отчаянных и страстных. Бывают деньки, когда хоца часто и подолгу. Коли бабёнки на примете нетусь, удовлетворяюсь двумя средствами. Я обзываю их средством левых и средством правых. Непруха. Все знакомые бабы при попытке выйти на их орбиту скользкими угрями ускользали в свои вселенные. Дроч приличен, как и ковырянье в носу. Дроч естестенен за неимением живого женского тела, иначе лопнешь и погибнешь. Я бы даже сказанул (и сказану!), дроч самобытен. В такие периоды чаще обычного заглядываешь в сортиры, пещерные и публичные.
Множество людских шкирок подхвачено крюками желаний. Рыбами бьёмся мы на песке, воздух хватаем и жилами рвёмся! Но улыбнётся удача, и мы поебёмся! Каждому по ебле, и пусть никто не уйдёт обиженным. Не проходите мимо! Однако жёсткая действительность вынуждает растрачивать драгоценную сперму вхолостую. Натруженная пушка производит прощальный выстрел миллионами потенциальных детей. Миллионы потенциальных детей совершают лебединый полёт и сломя чайник беспечно уносятся в сральное горло в розовой пене бурных вод стока. Жизнюха безумна и несправедлива по умолчанию. Но тише будь в этой жизни, как говорил один корефанчик. Царство ему небесное. Месяцко назад он бесшумно погиб от перитонита. Редкий чел соблюдает свои же советы. Берегите таких. Они мрут как мухи.
Для начала завернул в шмоточную обдираловку с жаждой устроиться обувным втирателем, короч, торгашиком голимым. У меня симпотное жало. Как выдала одна дамузель, со мной самое то к зубному ходить. Не так страшно. Вела переговоры белобрысая женщина, приготовленная к старости, с плоской харей гладкой кожи в строгих морщинах. Женщина встретила меня таким взглядом, каким могла бы смотреть электрическая розетка.
– С людьми общаетесь непринужденно? – ставит вопрос ребром.
– С ними да. Вот со сторожевыми псинами не всегда. – Ковырнул в носу. – Меня трёп не накаляет. – Ковырнул в другой ноздре. – Люблю умничать. Ну, типа, делиться знаниями. О башмаках знаю всё: есть женские, мужские, есть детские. И все разных размеров.
Сказала, звякнет. Ждал. Не звякнула. Поди, телефон мой посеяла и в бумажном море утопилась.
Далее блуждаю. В мобный магаз сунулся.
– Раньше продавцом-консультантом работали? – вопрошает кадровая каурая.
– Не, – грю.
– Почему решили устроиться именно к нам?
– Ну…эээ… – Тут осмыслил, какая-нить безобидная шутка не повредит. Юмор смазывает общение как масло булки. Улыбаюсь, значица, от уха до уха и произношу фразу, поумнее и поострее, поостроумнее: – Полагаю, к вам привело подсознание. Подсказало, что здесь мне обломится вольное сношение с кем-то вроде вас.
И обаятельно скалюсь.
Сказала звякнет. Ждал. Не звякнула. Зачем страждущих обманывать? Я хочу честно зарабатывать на комфорт, а напарываюсь на откровенных кидал. Пошлялся, в анкетах почиркал. Резюме в фаршировальню пошвырял. Везде – жди, звякнем. И не звякают. В ту пору мой мир наполняли брехастые луи и звёзды.
Зато звякнул Финча. Халтурка. Стиральные машины из овчарни на склад таскать. Ну, затаскали стиралки, получили деньжата, по два с тремя ноликами. Жалуюсь. Хочу регулярно вкалывать, по расписанию, а вокруг беспросветный обман: грят одно, совершают другое. Чё за люди? До пустых обещаний опускаются.
А Финча и грит, в наш Гробыв Фиолетовая Улитка примчала. Она со всеми общается, и все после общения с ней озаряются ясным пониманием своих недостатков и как им надо далее бытоваться. Озарение стоит косарь. Меня аж затрясло от такого озарения. Понимаю, рубленций 30, а тут цельный косарь. За косарь я сам кого хошь озарением оделю. Безвозмездно.
Финча на ухи конкретно подсел, мол, как твой лучшейший друган, настоятельно советую сходить к Фиолетовой Улитке. Ты себя и своих возможностей не знаешь, тычешься рандомно по всем углам вслепую, в духовной тьме блуждая, а Улитка научит, как с ходу прорываться, башкой своей тупой стены преград проламывать и к свету, к мечте своей забытой, приближаться, ручилы к ней протянув. Она тебе путь начертит. И тебя в него носярой ткнёт. Раз и навсегда. Моя, грит, Улитку давеча навещала. От её прямиком уборщицей устроилась. Ликовала после, это моё призвание, я, ликовала, с мытьём полов отлично гармонирую. Каждому своё. Я вот, может, гениальный грузчик, и не догадываюсь об этом, но при этом хочу гениально ничё не делать и баблосики за это брать. Не все с собой в мире и согласии живут. Вот и я не умею.
Поддавшись уговору корефанскому, направил стопы к Фиолетовой Улитке. Она в театрике “Бульон” засела. На сценке домишку ей соорудили, заныканная в нём сидит, полотенцем занавешенная. Отдаю косарь, полотенце откидываю. Вхожу. Передо мной натурально Фиолетовая Улитка. На табурете возвышается, белой гобеленовой скатертью накрытом. Крупная, сволочь, с овцу. Раковина тёмно-фиолетовая, с розоватыми кляксами по всему хитину, тело светло-фиолетовое, а глазила оранжевые, на чёрных отростинах. Взгляд выразительный, как у рыбы. На меня пялится. Я на неё. Через минутное молчание вещает: “Мой цвет фиолетовый, как и твой. Если хочешь, беги, нарезая круги”. Я ей за такое остро возжелал зрительные нервы пучком выдернуть, но почему-то домишку улиточную покинул. Спокойствия полный. Сам не врубился, как улитка с глазилами осталась.
– Я ей косарь, – говорю Финче, – а она схалтурила, едва на бумагу наговорила, сука фиолетовая.
– Чё сказала-то? – интересуется корефан. – А то и я бы к ней сходил.
– Сказала, её цвет и мой цвет – фиолетовый. Короче, намекнула, что ей откровенно похуй.
– Как и тебе, – заметил Финча. – Кому на себя похуй, у того и пути никакого, тот вечно по кругу скакать обречён.
– А если не похуй?
– Тогда по спиральке поскачешь, верх али вниз.
Я долго возмущался. И тут обман! Я ей косарь, а ей похуй! Я к тем, а они не перезвякивают! Эх!
Маленький лысый младенец
Катился в ките. Двумя сидлухами далее, через проход, тусила мамка с младенцем на коленях. Младенец на меня запялился. Морда пухлая. Взгляд, словно я ему бабла должен немерено. Ещё с прошлой житухи. Прикрытые набухшими веками глазюки навыкате прямо вопили: “Ну вот мы и встретились, щенок!”. Главное, таращится и таращится, будто тока мы вдвоём и находимся в ките и лупозреть более некого. Да что тебе надо, маленький лысый ублюдок?! Младенец отвернулся. Так-то. И тоже отвернулся. В окошко взором обратился. Панорама как панорама, мильон раз видел. И мильон впереди. Поворачиваюсь. Проклятый младенец опять на меня зырит. Спалил, что я на него в открытую уставился, и тут же мордилу свою кисло-молочную отворотил, будто он здесь не при чём. Ладно, хошь в гляделки поиграть, мать твою? Сейчас поиграем. Поглядим, кто круче. И начинаю ментально сверлить затылок отвернувшегося младенца. Минуты три сверлил, почти до полного истощения мыслительного аппарата, а стервец и ухом не повёл. Мне это надоело, и я отвернулся к окошку. Задумавшись о своём, оглядываю салон, а младенец – этот маленький лысый ублюдок – снова таращится на меня своими злыми глазёнками! Таращится так, словно на вечные муки обрекает! Тут остановка, его мамка поднимается и своё дитятко с собой уносит. И оно, дитяко это, удаляясь от меня, уносясь на материнских руках, до последнего на меня пялилось, пока мамка китово брюхо не покинула.
На следующей остановке я уж сам вышел. Очень мне взгляд дитятки не понравился. Ехал, никого не трогал. Трезвый ехал. Зачем с такой злобой смотреть? Понимаю, когда однажды вполз пьяным в автобус и к каким-то бабам на колени повалился. Они как заорут! Одна как завизжит, с такой же злобой, с какой младенец смотрел. И давай меня спихивать ручонками своими слабыми, да по спине охаживать. Сама тощая как проволока, твёрдая как булыжник. Я об её ляжку нос расшиб. По спине-то зачем колотить бездушно? Мне и без того плохо Я сам бы как-нить встал. Одной рукой за соседнее сиденье ухватился, а другой в буфера упёрся, той, которая визжала, как младенец смотрел. И тут она как даст мне по дыне. Дыня едва не лопнула от такого давания. Меня и вырвало. Прямо ей на костлявые ходули. Зачем пьяного чела по чайнику колошматить, я не понимаю? Подумаешь, в сисечки упёрся. Эка невидаль. Чё тут такого? В сиськи ранее не упирались что ли? Потом меня по всему киту неизвестные за шиворот проволокли и геройски выбросили наружу. На голый асфальт. Сволочи. Незаслуженно огрёб. Ну повалило чела тебе на колени, так ты подняться ему лучше помоги, а не по башне лупи злобно. Ничё, когда-нибудь и она к кому-то на колени повалится, пусть и ей по башке настучат немилосердно.
Стараюсь выбросить младенца из чайника. Младенец не выбрасывается. Я представил, как беру младенца и швыряю его через бетонный забор с колючей проволокой. Младенец летит и, нисколько не изменившись в мордасах и полностью сохранив свой злобный лик, скрывается за забором. Падает в сугроб и тут же застывает в синюю ледышку.
Пока пёрся к мосту, замёрз. Сунул клешни в карманы. В одном нащупываю нечто круглое и мягкое. Вытаскиваю. Апельсин. Я не имею привычки таскать апельсины в карманах. Откуда он взялся? Видать, младенец налупозрел. Пялился, пялился и апельсин напялил. Коли у меня появился апельсин, надо его сожрать. И замыслил сожрать его под мостом. Я раньше никогда не жрал апельсинов под мостом. Спустился под мост, стою на снегу, кожуру отдираю и кусками её ем. Слопал. За апельсин принялся. Младенца к тому времени из утятницы выветрило. Я смотрел на замёрзшее озеро. Коньки, Чинаски… Вот чёрт! Стоило от одного избавится, как другой тут же занял освободившуюся область. Свят район пуст не бывает. Однако из всего этого может слепиться в меру сумасшедшая сказила. Итак, младенец натаращил апельсин. Я придумал написать о младенце сказилу, пока ел апельсин. Если бы не апельсин, подумал бы я написать сказилу? Не знаю. Факт в том, что я подумал написать сказилу, когда зажевал первую дольку. Приду в родную пещеру и напишу.
Пришёл и написал. Ты доволен, маленький лысый ублюдок?
Граф Эпика или сто лет в ложке (сон)
Граф Эпика поднялся на смотровую вышку и оглядел Остров. Это он создал его и владел им тысячу лет. Почти весь Остров покрывала кислотная палитра жёлто-оранжевого леса, подобная шерсти венерианских овец. На севере синели горы. Верхами они скрывались в грязно-белом рванье тумана, точно проникали под юбку призрачной нищенки. Из нежно-серого неба доносилось песнопение. Печально и трогательно детские голоса выводили: “Он бы сам разозлился, схватил наган и… разревелся!”. Голоса трепетали, выводили, дрожали обертонами и рассыпались в дымчато-жемчужной выси звонким серебром.
– Моей твоей нежности, – пробормотал граф на совершенно другой мотив, держась за щеку.
Пока он взбирался на вышку, задул порывистый холодный ветер. Марс покачивало, как палубу шхуны в помутневшем море. Стальные тросы подстраховки скрипели. По графским зубам разлилась тупая боль. Черногольян, его поверенный, украдкой вынул из-за пазухи лодочку шпрот в томате, скрутил овальную тонкую крышку в рулончик и кушал десертной ложкой. Ложка погружалась в сероватую красноту, наполнялась ею и пряталась во рту поверенного, обнятая мягкими губами вокруг тонкой твёрдой шеи. Черногольян обожал копчённую рыбку в томате. А Эпика не жаловал консервов. Граф однажды отравился ими и запретил всё консервированное по всему Острову.
Шпроты Черногольяну тайно присылал брат, воздушной почтой. Черногольяна и его брата выдумал граф. Как и изумрудного маленького птеродактиля, приносившего жестяную коробочку шпрот раз в месяц. Он цепко держал её когтистыми лапами, ухватив за желобки по краям. Чаще не выходило. Птеродактиль один, расстояние громадное. Если бы Черногольян ел шпроты ежедневно, они не нравились бы ему так сильно. Он бы относился к ним снисходительно.
Обычно граф не оглядывался перед прыжком. Черногольян ел контрабандные шпроты без опаски. На сей раз Эпика обернулся. Его обернула в раздражение зубная боль. Конечно, граф знал, что Черногольян украдкой ел кильку, но одно дело, когда тебе всё равно, а другое, когда болит зуб. Граф выхватил лодочку, полную шпрот, и забросил её как можно дальше. Жестяная баночка, кувыркаясь, описала дугу, раскидывая из себя рыбьи тельца и красные капли, алюминиево посверкала в сером утреннем воздухе и утонула в жёлто-оранжевом море лесной кислоты. От обиды у Черногольяна навернулись слёзы. Он служил графу двести лет, а успел съесть лишь две ложечки шпрот в томате. На каждую по сотне лет. Месяц ожиданий впустую. Надежды, ставшие прахом. Мелочь по сути. А обидно до горечи. Эпика прогнал поверенного с вышки. Граф остался один, высокий, статный, широкоплечий и гордый. Затем влез на ограждение, расправил крылья, присел, оттолкнулся ногами и прыгнул. Пару раз взмахнув, граф Эпика рухнул.
Прогнанный с вышки Черногольян сорвался на чёрно-розовом упитанном кроте с глуповатой физиономией и ружьём. Из головы крота торчал кривой гвоздь, а глаза заменяли шарики пенопласта. Черногольяна взбесила расхлябанность стражника, завалившегося на бок, хотя тот за всю службу ни разу не шелохнулся и постоянно молчал. Черногольян приносил его сменщика, розово-чёрного крота, с собой, а чёрно-розового уносил в подмышке и бросал неподалёку от своего дома, где попало и как попало. Ружьё одно на двоих. Поверенный выхватил оружие у часового. В ругани он даванул прикладом по земле. Ружьё выстрелило и поразило взлетевшего графа в сердце. Граф Эпика умер за мгновение до того как его тело шмякнулось на розового крота с высоты в двести метров. По метру на год. Крот лопнул, гвоздик воткнулся в дерево, пенопластовые шарики, подхваченные ветром, легко покатились к обрыву. Наступил конец света. Создатель Острова погиб, а кроме него и не было ничего. Всё было в нём.
Похороны бабуси Иволги
Бабуся Иволга, батёва мать, окочурилась. В ЦРБ, в отдельной палате приятного цвета кофе со сливками. Жизнь печёт людей. Напоследок мажет белилами, йодом, синькой или фиолетово-чёрным и подаёт смерти. В корочке подаёт. Два гада назад бабуся в комическом отдыхала. Оттуда чаще всего запускаются. Не запустилась. Отдых ей прописал дедок Марусь хрустальной вазой в 70-летний висок. Многие старались вталдычить ему, что его жена не Вольф Нитлер. Безуспешно. Дедок Марусь, уверенный в обратном, изредка покушался на право бабуси жить на этой грешной земле. Тоже безуспешно. Уважаю тех, кто до последнего настаивает на своём и не идёт у кого-либо на поводу. Главное, заниматься тем, что считаешь нужным. Дедок Марусь считал свою жену Вольфом Нитлером, а Вольфа Нитлера считал нужным прикончить, пока серая армия усатого ублюдка не разлилась по всей Европе как дерьмо по пирогу. Несколько заторможенное восприятие действительности. Без акцента внимания на попытках кокнуть бабусю, дедок Марусь, в сущности, был хорошим. Мне, щеглу босоногому, сладости покупал, баблишком снабжал на детские зависимости по типу сладкого и сигарет. И, не надо этого забывать, иногда покушался на бабусю. Полгадину назад до дедка допёрло, что его многострадальная супруга не Вольф Нитлер. И дедок под лампочкой повис. Принял радикальные меры. Жизнь перестала иметь значение. Смысл был утерян. Часто весь смысл в иллюзии. Много лет стараться убить Вольфа, а потом осознать, что люто ненавидимый усач и есть твоя жена. Я бы тоже подался в суицидники. Неплохой сюжет для семейной саги. Идея: двойственность человеческой натуры.
Бабуся в комическом выжила, а спустя двух гадов, окочурилась в отдельной. Захолодил ветерок былую рану. Расслабилась, видать, старая, среди кофе-стен, с плазмой 4K наедине и к дедку на тот свет улетучилась. Може, батя канал не тот как-нить оплатил, а какой привык. Бабуся Иволга узрела порнуху, сердечко-то и ёкнуло. Прекрасно понимаю. Я порнуху впервые годин в восемнадцать увидал, уже после двенадцатилетнего пещерно-таёжного веселья с медведями. И обомлел. У всех всё выбрито. И без того мало шерсти на людях колышется, так они ещё и выбривают её отовсюду бесстыдно. Меня чуть не вырвало, до того противно стало. Мои медведи бы таких развартников на куски разорвали и в трёхлитровые банчули побросали на зиму солиться.
Перед окочуриванием бабуся Иволга похудела, йодом обмазалась, завострилась, запаршивела, всё как полагается. И в космос намылилась, жёлтой птичкой обратившись. Батя звал с бабусей прощаться. Сказал, её не узнать и она никого не узнаёт. Самое оно прощаться, все карты рубашкой вверх. Равноправный обмен. Я не повёлся. Предложение начисто лишено смысла и эмоциональной составляющей. Тем более её.
Кончина бабуси Иволги навеяла мысли о собственном танатосе. Не хочу быть дряхлой, зажившейся, тупорылой, полусбрендевшей сволочью, полной самодовольства и желчи. А всё к тому и идёт. Исходя из моего ублюдочного характера и похуистического образа жизни. Всем на всех похуй. Мне тоже. В том числе и на себя. Не люблю полумер.
Наверное последую примеру дедка. Годин в 50-55. Самое то. Хочу умереть быстро и по собственному желанию. Вскроюсь или застрелюсь. Вешаться не хочу. Здесь первопроходец дедок Марусь, а вторичность уныла. Либо ты первый, либо никто. Вторичность оставляю убогим. Все, кто тянут до последнего, слабовольные хлюпики. Сказать последнее “Идите на хуй, я снова впереди вас” надо тогда, когда ещё можешь внятно произнести эту фразу и помнишь её значение.
Хочу скреплённый кое-как верёвками шаткий гроб из жести с нарисованными ромашками и колокольчиками, ярко-ядовитыми до безвкусия. И медведицей. Чтобы посмотревшие на гроб испытывали желание отвернуть свои постные хари. Если кто не согласен, что у него харя, то от несогласия красивше не станет. Вся моя житуха – хождение в ржавой трубе, вымазанной жирным пластилином. От спёртого воздуха в горле першит. Сдох так сдох, это не повод расслабляться. Поэтому гроб не бархатом и перинами умащать, а смазать бы мокрым пластилином. Пусть мою могилу с одной стороны зальют малиновым вареньем, с другой засыпят книжками, тока посмешнее и пожёстче. Я сладкоежка и без ума от подобного чтива. Оградой пойдут фиолетово-оранжевые карамельные палочки высотой в метр. Они быстро растают. Я ужасный чел, скандальный и невыносимый. Не уживаюсь ни с кем и в первую же ночь пересрусь со всеми покойниками. Посему необходим проход на поверхность, чтобы я мог вылезать по ночам и сраться с покойниками, иначе не успокоюсь. Надгробье хочу из майолики. Надпись должна быть из фольги, в которой недавно испекли курицу. Догадались, какая надпись? Правильно, идите на хуй, я снова впереди вас. Финалом запуск в небо чёрно-белого шарика с приклеенной фоткой моего жала. Не терплю пафоса. Поэтому немного пафоса на моих похоронах не помешает. Впрочем, шарику долго не летать, лопнет или застрянет где-нибудь, а фотка… хер с ней. Пускай хоть жопу ею подотрут. Но бутылку шампанского о борт гроба разбить – это святое. Вот и сбывается всё, что пророчится… в счастливый путь!
Сгодится и гроб из свинца со смещённым центром тяжести. Левой паре придётся тяжелее, чем правой. Кому-то всегда незаслуженно труднее. Левая пара будет ворчать на правую, мол, едва удерживаем, а правые будут подначивать, мол, мы Стразла, то есть меня, вдоль распилили и половину его выбросили. Вот и несём пустую сторону, потому и легче. С шутками и прибаутками, так сказать, завалят гроб на дорогу. Я же говорю, смерть – не повод расслабляться, как бы смешно не было. Крышка распахнётся, я тряпичным комом вывалюсь. Нелепо, смешно, безрассудно, волшебно. Я сам по себе такой же, продукт восприятия своей судьбы. Не в смысле, что люблю вываливаться из гробов на дороги, а что нелепый. Где наглость нужна, робчею. Девка какая понравится, робчею. Если не понравится, не робчею. И не робчея, выебу. Вот тебе крест, выебу, выебу, обязательно выебу! Обычно так семьи и спаиваются, вкривь-вкось, абы как, наперекосяк. А где притухнуть бы малость, я зубром пру. Меня таким образом с пяти работ выгнали. А в армейку и брать не захотели. Ещё бы. С моим-то медвежьим прошлым.