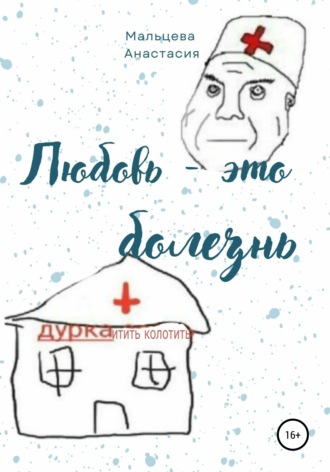
Полная версия
Любовь - это болезнь

Анастасия Мальцева
Любовь - это болезнь
Потолок. Потолок, стена. Потолок. Мама держала руки, чтоб я не раздирала себя. Напевала старую песню. Она сочинила её, когда я ещё была маленькой.
– Маша, Маша, не горюй.
Я нам песенку спою.
Я спою нам про кита,
Про моржа и про ежа.
Мама, конечно, не лучший бард, но песенка всегда успокаивала. Мама наклонилась к самому уху и напевала.
– Ну как она? – папа вышел из кабинета.
Он обращался к маме, не ко мне. Я всегда была просто ребёнком. Конечно, пусть мне семнадцать, но я ребёнок. Объект. Как «она». Не «как ты, дочка». Не… а, ладно…
Мама, не переставая петь, пожала плечами. Я чувствовала это растерянное движение. Так же она пожимала, когда Пашка умер.
Мы дружили с ним с садика. Такой шебутной пацан с рыжими подпалинами. Он первым признался мне в любви. В смысле, реально первый чувак, который сказал, что меня любит. Не то чтобы после него было много… Он тогда закричал на всю садовскую раздевалку, долго ходил за мной, потом всё снова вернулось к дружбе.
Мне, как это бывает, нравился другой. Белобрысый Юрка, хулиган и матершинник. Но его оставили на второй год в садике, а мы пошли в первый. Теперь он был последним уродом, алкашом и торчком. Вот как блин бывает: плачешь, мучаешься, не понимаешь, почему не можешь получить, что хочешь, почему всё не так, а потом – бац – и самый красивый пацан выглядит поносом.
Так что да, хорошо, что я Юрке не нравилась.
А мне не нравился Пашка. Только как друг. Короче, френдзонила я его жутко. Когда у меня появился первый парень, нам обоим было тринадцать, Пашка делал вид, что рад за меня. Но я-то всё видела. И видела, как радостно утешал меня, когда мы расстались.
А потом через год он попал под машину. Мне об этом сказала его мать, когда я набрала ему после игнора. Я ему строчила, строчила, он молчал.
– Паша умер.
Она сказала это таким спокойным тоном, будто он просто вышел погулять и забыл телефон.
Тогда меня первый раз засунули в дурку.
– И как теперь жить, мама?! – мне казалось, что я ору, но еле шевелила губами под аминазином.
И вот так же, как и сейчас, она жалко пожала плечами, будто и сама понятия не имела, как живёт эту жизнь.
Уже знакомый кабинет, разговор с психиатром, душ под присмотром, Четырнадцатое отделение. Родное. Меня уже отпустило, таблеточки доктора помогли.
– А, привет, Маш, мы уж соскучились!
Как меня бесила эта тощая поломойка. Нон-стопом орала на всех, а при взрослых вся такая приветливая.
– Вы уж присмотрите за ней, – папа пожал ей руку якобы в знак приветствия, сам сунул пятёрку, вечно он так. – Пожалуйста.
Поломойка расплылась, спрятала деньги в карман и полезла меня обнимать.
– Не надо меня трогать! – я резко вскинула руки, а папа начал меня поучать. Ему то ли казалось, что я притворяюсь, то ли он реально думал, что диагноз можно как-то контролировать, чтоб ему не было неловко.
Ещё и извинился перед этой.
Я ушла в палату, не попрощавшись. Маму жалко, конечно, она говорила мне в след, типа что завтра приедет, чтоб я позвонила, что любит меня. Но я ни минуты не могла оставаться с отцом, так он бесил.
Нет, я его, конечно, люблю, но в такие моменты…
Сначала, как обычно, сунули в «карцер». Планово я лежала только раз. Тогда все справки были готовы, анализы, подтверждения, что не болею. Ну и сразу в палату ко всем. А тут привычный карантинный бокс, где вроде и собственное пространство, никто на соседней койке не шелудит: меня всегда засовывали в одиночный – то ли везение, то ли так надо. Но ты всё равно под присмотром, как в аквариуме. На половину стены окно, и все ходят, палят. Разглядывают. Чувствуешь себя, как зверушка. Разве что палкой не тыкают.
И при этом всём одиноко. Они там, за окном. А ты здесь, в своей гадкой клетушке, в которой сотни таких коротали свой карантин.
Да, конечно, нас выпускали. С карцером я немного преувеличила. Папа говорит, я всегда преувеличиваю. Усложняю. Типа жизнь и без того сложная штука. А в другой раз выдаст, что жизнь так проста, если её не усложнять. С таким отцом несложно и биполярщицей быть, и шизофреником. Но мне, уж не знаю как: повезло или нет, но такого богатства не диагностировали.
Была бы шиза, сажали бы в Третье. Там самая жесть. В прошлой отсидке была девчонка, скакнувшая с Третьего, так она такого рассказывала, что у меня паника началась. Спазмы, тоннельное зрение, удушье – врачи. Опять меня обкололи. Ну не как тогда до состояния овоща – это у меня психоз был, ну так – психозик. Я не бегала с ножом, ни на кого не бросалась, гномов не видела, инопланетные сущности тоже. А то половина одноклассников была уверена, что раз меня упекли, я точно маньяк. Что теперь всем им пипец. Опасались.
Я их не виню. Точнее так, понимаю. Теперь. Тогда очень злилась. Потом стала прикалываться, они забавно пугались. То я начинала смотреть в одну точку и стучать по столу вилкой в столовке. То вставала рядом с кем-то и часто дышала. Иногда просто кидалась с криками. Потом успокоилась. Мама мне долго мозги промывала с психологом. Я прозрела, как говорится. Люди боятся неизвестности, вот и я для них типа загадка – не знают, что ожидать. Хотя по мне, они просто придурки.
Вот я и думаю, что с таких придурков-то взять. Понимаю.
Ладно, фиг с ними. В боксах есть время для выхода в общий холл. Там круглый стол и настолки. Собираемся, режемся в Мафию и Монополию. В телефоны нельзя, их отбирают. Прям как в тюрьме. Выдают только по требованию с шести до восьми, чтобы позвонить родителям или друзьям, если тебя обеспечили кнопочным. В прошлую госпитализацию была девка, которая вечно звонила своему парню и сралась с ним – в итоге ей перестали выдавать телефон, родители звонили на стационарный, и она перекрывала всю линию.
Меня, как обычно, посадили в крайний бокс к холлу. Моя вип-палата. Или одиночка для самых опасных? Иногда мне нравилось так думать, хотя тупо, конечно.
В остальных боксах по два, по четыре дурика.
Но плохо, что прямо через стенку от меня холл. Если кто-то играет или болтает, всё слышно и бесит. Я как-то чуть стену не пробила, чтобы там все заткнулись.
Но сегодня был вечер, почти ночь. Скоро отбой, некоторые уже спали.
Я была подготовлена, все вещи с собой. Никаких цепочек, ремней и прочих жутко опасных вещей. Хотя некоторые проносили и что поопасней, но мои папа с мамой готовили меня, как на войну. Точнее, нет. Так бы они меня вооружили. Наверно. А тут отобрали всё, что может быть под запретом.
Наушники, кстати, тоже нельзя. Проводные. Так что мне свезло и в первую же отсидку я получила новенькие беспроводные. Но у меня их стырила соседка по палате во второй срок. Я ей предъявила, а она их тупо раздавила.
Ну и я её подраздавила, а наушники жалко.
На дежурстве сегодня была моя любимая воспитательница Галя. Полненькая, с короткой стрижкой и вечной улыбкой. Она напоминала мне нянечку из детсада, которая разрешала не есть овсянку.
– Машенька, здравствуй! – Галя опять улыбалась. Кивнула Поломойке, типа может уйти. – У меня там ещёжды с Леной проблемы. Помнишь? Такая рослая девочка с молнией на шее, помнишь?
– А, Зигота-то, – ещё одна бесячая дама. Копец, кажется, я просто всех ненавижу. Но нет, это, конечно, не так. Хотя многие просто невыносимы. Она тусила с той, что раздавила мои наушники, так что я заодно её невзлюбила.
– Опять паника, а дежурный в Третье ушёл. Но угомонилась-таки. Так, – она остановила поток мыслей и улыбнулась ещё шире, – ну как ты, а, Маш?
От её заботливой теплоты мне стало больно. От слёз аж глаза зачесались, но я силилась не реветь. Папа всегда упрекал: опять ноешь. Не ругался, не орал, а с таким презрением и отвращением бросал эту фразу. И всякий раз, особенно на людях, мне так было стыдно и противно реветь.
– Ну, ну ты чего, Маш, всё… всё хорошо будет, да?
Да уж. Гале я это прощала. А вот другие со своими «всё хорошо» выносили ужасно. Как будто отмахивались или обесценивали, а она… она будто реально верила в то, что говорит. Усадила меня на кровать, села рядом и гладила по нечёсаной пакле. Так и не успела покраситься в синий. Уже и смывку купила, осветлитель, саму краску.
– Вот поплачем, поплачем и остынем. Да? Бедные вы мои детки… хорошие…
Она гладила меня, говорила. И я сама не заметила, как отрубилась.
Проснулась накрытая одеялом, разутая. Протёрла глаза, на руках остались разводы от туши. Теперь точно, как панда.
В окошко палила Зигота. Тут же отвернулась, типа мимо проходила. Куда только она проходила, когда все по клетушкам сидят? Хотя, может, к психологу. Или опять выпросила внеплановый созвон. Знаменитая Драма Квин Четырнадцатого. Как что не по её, так такие истерики, заламывания рук и всё прочее. Хотя с F60.4 оно и понятно… Истеричка она, короче. Люблю кидаться кодами и цифрами, типа солиднее.
Диагноз, конечно, диагнозом, но всё равно – бесит.
Постучали, поворот ключа, дверь открылась. Меня вжало в подушку, будто опасный вор ломился в мой дом.
– Машенька, доброе утро!
Галя. Фуф. Хорошо, что она ещё на смене, принесла завтрак. Чаёк, запеканка, бутеры. Пахло почти по-домашнему.
Донесла до кровати, добрая женщина. А то есть такие, что заставляют встать, подойти, даже если сами и разбудили.
– Ну как ты? – опять погладила по голове.
Вообще, я это терпеть не могу, но с ней не противно. Некоторые гладят, чтоб пожалеть, как собачку, или поставить ниже себя. А она – просто добрая.
Сразу открыла мне туалет. Ну да, есть тут такая фигня стрёмная: самому просто так нельзя, а то мало ли что. В толчке захлебнёшься. Ну и надо просить воспитателя, чтоб он открыл, ждал, пока ты всё сделаешь, и закрыл на замечательный ключик, который носит в кармашке. Ключ от всех дверей – тупо ручка дверная, без которой все двери превращаются в стены.
Ну и сидишь ты, думаешь: блин, она ждёт, а у меня не лезет, а надо, а от этого всё ещё больше сжимается. Замкнутый круг. Буквально.
Потом меня тыкали иглами, брали кровь на анализы, мазки и прочую хрень. Чувствовала себя подопытной. Ну и по тому, как тебя лечат, тоже иногда кажется, что на тебе ставят эксперименты.
Подбор таблеток – отдельная история. Мне как-то дали треш какой-то, начались спазмы, удушье, онемение. Вкололи что-то – тогда отпустило. А то я уж с жизнью прощалась.
В отличие от многих в Четырнадцатом, я вроде как хочу жить. Просто бывают моменты, когда накрывает, но я не думаю выпиливаться. Просто иногда перебарщиваю. А мама с папой не верят.
Даже когда мне накладывали швы на руках, я ничего такого не собиралась. Просто физическая боль отвлекает от внутренней.
Потихоньку дурики выползали из карцеров. Зигота вышагивала на своих длинных ногах, тонких, как усы таракана. Ползла к круглому столу. Там уже сидели две девочки и пацан. Я их не разглядывала. Когда вижу кого-нибудь нового, вообще не могу на него смотреть. Меня как куполом накрывает. Отвожу глаза, всё как в тумане. Потом уже привыкаю, осваиваюсь, и вроде как возвращаюсь. Ну прям реально начинаю чувствовать тело, слышать, видеть. А не быть где-то со стороны.
Деперсонализация, дереализация. Дебилизация.
Я села за стол, потом проматывала в голове эту плёнку, всё вспоминала. А в моменте меня будто и не было. С камерой стояла.
– Привет. Я Лиза.
– Привет! Я Маша!
Я знакомилась, как угорелая. Чтобы никто не понял, что тебе страшно, надо везде высовываться самой, активничать и шутить. Тогда точно никто не догадается, может, и ты.
Потом я уже разглядела, что у Лизы были рыжие кудри, водянистые глаза и веснушки. Она была такой стереотипной Лизой, которую представляешь. По крайней мере, я именно такой «Лизу» и вижу.
Вторую девочку звали Ланой. Так-то она Светка, но имя её ей не нравилось. Меня тоже моё вымораживало, но адекватной альтернативы я не придумала. Мэри? Мари? Ну это как срать среди поля и говорить, что ты в пяти звёздах. Так я и осталась Машей среди Лан, Таш и Рин.
А пацан просто молчал, пока я его не растормошила. Как зовут, чего такой грустный и прочая мерзость, которая меня саму раздражает. Бывают же состояния, когда не хочешь, чтоб трогали. А тебе начинают: что молчишь? Чего тухлишь? Так и хочется спросить: чё не отвалишь?
Но он вроде взбодрился, представился Веней. Подошла Зигота, до этого всё по окнам ошивалась, приставала к воспитательнице. Эта была куда хуже Гали. Сушёная, с неполучившейся быть выбеленной башкой и красной помадой. Её жёлтые волосёнки были убраны крабиком с отвалившимся зубцом. Помада вечно отпечатывалась на таких же, как волосёнки, зубах и растекалась в морщины.
Назвать её совсем уж прям старой я не могла, но вот эти морщины были явно видны. Видимо она так часто сжимала губы в куриную жопку, что они проявились раньше гусиных лапок.
Короче, на лице была какая-то птицеферма, а в голове – птичий помёт. Когда у меня была истерика в прошлую госпитализацию, она просто говорила: «Ну чего ты плачешь?». Я, понятное дело, не успокаивалась, и она стала орать. Мадам, вы как там, вообще? Мы, так-то, в психушке. Тут детишки с проблемами. Аллё!
В общем, она производила впечатление беспросветно тупой заблудившейся дуры, которая перепутала дурку и сад. Надо детишек построить, высадить на горшки, раздать им соски.
Ну и та моя истерика перешла в паническую атаку, и только после этого мадам догадалась вызвать врача.
С тех пор я её ненавижу. К счастью, скоро переведут в общее отделение, и она исчезнет с радаров. А вот, что не увижу и Галю, это, конечно же, жаль. Но иногда она, бывало, приходит. Так, повидать своих, как она говорит, птенцов.
Опять мы о птичках.
– Я с вами. Окей же? – Зигота смотрела на стол, а не на кого-то конкретно. Наверно, ей должен ответить был стол, но ответила Лиза.
Конечно же, разрешила. Она-то Зиготу не знала. Будь моя воля, я её бы послала. Ну бесила она меня! Как говорится, друг моего врага – мой враг.
Мы играли в Монополию, было даже немножечко весело. Веня скупал все заводы, Зигота с позором проигрывала. Не помогал ей ещё волшебный символ Гарика Потного. Остальные боролись за вторые места, и тут воспиталка меня оборвала. Я только собиралась прикупить электростанцию.
– Мария, к тебе родители.
Я обернулась, мама с папой в бахилах уже сидели на стульях. Первым делом я к ним рванула, но не успела и сдвинуться, как вспомнила вчерашнее поведение папы, так что притормозила.
Мама привезла бутерброды с форелью, папа – кучу домашки.
– Вот, Маш, смотри…
И он листал мои грёбаные учебники, вонявшие школой. Понаклеил листочки с номерами заданий и датами сдачи.
– Я всё понимаю, но ЕГЭ надо сдавать, так что хоть по чуть-чуть, но делай.
Бутерброды с форелью я обожаю. Мама обычно кладёт в них лимонный майонез и листья салата. Но на этот раз они были безвкусными. Только привкус домашки и батиного занудства.
– Ты, жуй, Машенька, не торопись, – мама осторожно коснулась моей головы. Я отдёрнулась. – Яичко хочешь?
Я съела всё, хоть аппетит и оказался испорчен. Назадавали столько, что я в обычных обстоятельствах бы и не сделала. А тут… но папа сказал, что всё сам проверит. Придёт забирать выполненное ДЗ и заставит доделывать, если что-то не так.
Он думает, что образование – это самое главное. Что без образования – никуда.
Его брат закончил какое-то ПТУ и живёт на вилле в Сочи. У моих родителей пять вышек на двоих, и мы живём в двушке за МКАДом.
Но со своими тремя высшими образованиями папа не замечает никакой корреляции.
Я не говорю, что образование не важно. Кто захочет с идиотом общаться? Но не всегда образование равняется знаниям. Может, поэтому дядя на вилле, а мы в… там, где мы есть.
Я ему говорю, что хочу развиваться в том, что мне интересно, а все эти логарифмы и химии мне вообще не сдались.
Воооот, говорит, не знаешь, что в жизни ещё пригодится. Э… как мне могут пригодиться логарифмы, если я не буду никак с ними связана? Я даже представить себе не могу, что должно произойти, чтобы я такая: О! Настало ваше время, мои логарифмы!
Бред в общем. Я бы с удовольствием больше времени посвящала информатике и литературе. Хотя программу последней я точно бы изменила. Есть очень прикольные книги, но их либо не изучают, либо суют во внеклассное чтение. С «Войной и миром» у меня до сих пор военные действия, а за преступную графоманию Достоевского я с ужасом несу наказание.
Если не успеваешь заснуть, пока кто-то рядом, становится страшно. Из коридора в окно льёт подыхающий свет, стены холодные, двери заперты.
Я сидела, окуклившись в одеяле. Спрятала всё, что только можно. Только нос торчал для дыхания. И глаза. Чтоб не пропустить, если что.
А вдруг здание загорится? Эта воспиталка точно спасать нас не будет. Всё заперто. Я буду гореть живьём. Я обуглюсь до головешки, и никто меня не спасёт.
Замелькали все кадры ужастиков. Сердце билось, потом останавливалось, как задыхалось, и снова начинало бежать, смываться из этого ада.
Вот уже полыхала кровать, я куталась всё сильнее. Меня бил озноб, потом бросало в жару, как будто огонь и правда добрался.
Изо всех сил я вжималась в матрас. Уснуть. Уснуть. Надо уснуть.
И не проснуться.
Глаза тоже горели. Нет, спать нельзя. А вдруг и правда пожар, и меня реально не станет. Я никогда не проснусь. Я…
Дверь открылась, будто её с ноги выбили. Сушёная воспитался стояла, как призрак из оперы, а пальцы корчились, как у Носферату. Только тут до меня дошло, что ору.
Оглушительно и беспощадно.
Она пыталась что-то сказать, но не было слышно. Я орала до сипа. До колик.
– Маша, что б тебя!
Я услышала её, только сорвав голос.
– Тебе кляп, что ли вставить?! Видишь, все спят?! Одна ты голосишь, как ненормальная!
Я бы ей сказала, что я и есть ненормальная. Тётя, алло! Но тихо сипела и задыхалась слюной.
Дверь закрылась. Меня бил колотун. Снова открылась, не знаю уж, через сколько, но, к счастью, это был Андрей Юрьевич, мой психиатр.
– Маш, ты как? – сел тихо, прям деликатно, ко мне на кровать.
Я хотела ответить, но был только сип.
– Не можешь говорить?
Он ещё что-то спрашивал, потом поставил укол, и я быстро заснула.
Теперь на ночь мне давали снотворное, и всем стало куда легче жить.
Голос быстро восстановился, и уже через день я громко орала «Рыба» за столом в домино.
Через два дня меня перевили в общую палату. На соседней койке лежала Зигота, а справа была стена. Повезло, так повезло.
Если зайти в отделение, то выглядит это, как простая больница. Я имею в виду, что мало кто скажет, что это психушка. Никто не ссыт под себя посреди коридора, не бьётся о стену и не валяется на полу. Бывают, конечно, припадки, но, как ни странно, это всё-таки редкость.
И да, у нас нет усмирительных рубашек и шоковой терапии, как в «Гнезде Кукушки». Я слышала, что БАР и тяжёлые депрессии всё еще с её помощью лечат, но выглядит это гораздо гуманней: под наркозом и всё в этом роде.
Народу в этот раз было много. Весеннее обострение.
– О! Ты чё опять здесь? – ко мне подсела то ли Диля, то ли Гуля – не помню. Мы с ней пару лет назад вместе лежали. Не могу сказать, что подружились, но могли перекинуться парой слов.
– Да… – я махнула рукой и зашла в столовку. Тут тебе еду в номер не носят, надо ножками топ-топ и за общий стол.
На обед давали перловый суп, а перловка – это почти так же мерзко, как сопли из носа моего одноклассника. Такой мелкий белобрысый пацан, Вовка, его все дрищём называют. Так вот у него вечно течёт сопля, он засасывает её, когда та к губе подтекает, и она снова течёт. И так весь день. Каждый день.
Одного этого вида уже блин достаточно, чтоб тебя упекли.
Так вот перловка – это второе по мерзости в мире.
Диля-Гуля была раза в два больше меня. Высокая, крупная, занималась баскетболом или борьбой. Я в курсе, что это совершенно разные вещи, но прошла уже куча времени со знакомства, да и слушала я её россказни в пол – даже в одну восьмую заднего уха.
Так вот она нависла надо мной и всё твердила, что я должна рассказать, за что меня упекли.
Мы, так-то, тут не на зоне. Я сама вроде бы согласилась.
А вот рассказывать ей не соглашалась.
Она всё продолжала и, чтобы меня расслабить, трепалась про свои трагедии жизни.
– У меня любимого в армию забрали, ну я и хотела за ним.
– В армию?
– Да, конечно. А что-то не так?
– Да нет… ничего… – я села за стол со своей мерзкой едой. Но хоть на второе были пюре и котлета.
– Но родители мне запретили. Шестна-а-адцать, куда ты пойдё-ё-ёшь? Кому ты нужна-а-а? Это всё незако-о-онно! Мы тебя не пуска-а-аем! – она так распалялась, что я прикрыла ухо рукой, чтоб не оглохнуть.
– Я и ударилась головой о стену на кухне. А она у нас, знаешь, ну… из бумаги… или… картона..
«В коробке, что ли, живёте?!»
– Я её немножечко пробила, и как бы они наорали, что я буду оплачивать, и сдали меня сюда.
– Принудительно, что ли? – я аж заинтересовалась.
– Как бы нет… это… я просто уже и сама… как бы… ты знаешь… – она стала черпать суп, у меня аж подступило.
– Приятного, – рядом сел Веня. Его синий чуб стоило бы помыть.
Есть совсем расхотелось. Я вообще не любительница делать это на людях, а уж когда рядом перловка и немытые волосы…
На прогулке – да в дурке выводят гулять, прям как в началке – я опять слушала Дилю-Гулю, так и не уточнив её имени. Погода была ужасной. Моросил дождь, холодно. Я куталась в шарф вместо шапки. Её кто-то уронил или присвоил из раздевалки. Хотела пожаловаться, но нас выволокли гулять, а я была почти овощная от новых пилюль.
Вот и куталась, заматывала голову, уши, шею и нос. Зигота выхаживала без шапки, горбилась, но бодрилась. Веня плёлся позади всех и пинал прошлогодние листья.
– Я – Человек Паук! – невысокий пацан с лишним весом сиганул на нижний сук высокого дерева и стал оттуда орать.
Мы столпились вокруг. Воспитательница принялась сманивать его, как кота. Все знали, что он просто прикалывается, поэтому он самовольно спустился, стоило пригрозить переводом в Третье. Это вообще любимая страшилка у воспиталок. Чуть что – пойдёшь в Третье.
Единицы, которые там побывали, наводили жути и говорили, что в Трёшке даже привязывают.
Досуг состоял из трёпа, настолок, кружков по интересам и терапии. Когда расписание составлено правильно, ты почти ни минуты не сидишь в одиночестве. Что бесит.
Всегда и везде под присмотром. Даже если чуть дольше задержишься на толкане – всё, бьют тревогу. Точнее, тарабанят в дверь – всё в порядке? Ты там скоро?
С таким прессингом я не могла сходить уже пятый день. Живот болел, всё бесило.
– Надо сказать врачу, – мама в очередной раз принесла бутерброды. Папа забрал старую и принёс новую домашку.
– Нет! Не надо!
– Маш, не глупи, с этим не шутят.
– С чем? С говном? Мам, не говори! Ну пожалуйста! Просто принеси мне слабительное.
– Ты в своём уме? Мы не знаем, как слабительное подействует вместе с лекарствами. Надо к врачу.
Надо… ну-ну… мама то ли сама не в себе, то ли ещё что, но она сказала о проблеме воспитательнице. Не врачу. И что та сделала? Она запугивала, что, если я не покакаю, мне сделают клизму.
– И не смей врать! Я буду проверять за тобой.
Сложно представить, какое это унижение, когда сидишь и думаешь, что тебе надо сваять какашку и продемонстрировать. Вот, посмотрите, пожалуйста, я сделяль.
Интересно, она собиралась палочкой тыкать?
Я подловила Галю и сказала ей всё, как есть.
– Ох ты ж, господи, – она сложила руки на обширной груди и побежала к доктору.
Потом выговаривала той воспиталке за непрофессионализм.
Мне дали слабительное и – вуаля. Даже показывать никому не надо.
Сразу лёгкость, счастье бытия. Нирвана.
Нирвану я, кстати, слушала с десяти. Мама втирала, что это всё моя музыка. Вот не наслушалась бы всяких депрессивных дегротов – она путала их с андеграундом – и не поехала бы кукухой.
Интересно, почему поехала Зигота? Она вечно слушала классику и репетировала на рояле. Такая вроде бы тихая, вроде как для себя, но вечно поглядывала, слушают ли её концерт.
Выпендрёжница.
Меня из музыкалки в первый год выгнали. Я сказала училке, что она – старая клюшка. Она жахнула меня своей клюкой – реально, у неё была клюка с костяным набалдашником – и ход в музыку мне был закрыт.
А Зигота выдавала «К Элизе» и «Лесного Царя», как пукала. Быстро, метко и смачно. Я, стыдно признаться (нет), в классике не шарю, но названия композиций выучила. Как и всё отделение, ведь Зигота объявляло каждое.
Воспиталки рукоплескали, иногда и Галя приходила послушать. Молодец, говорила, молодец.









