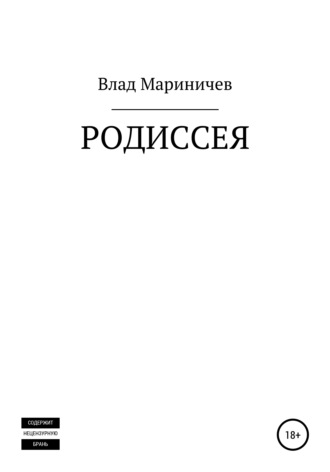
Полная версия
Родиссея
Начался аукцион. Воздух павильона студии, не рассчитанной на засилье теплокровных, быстро прогорал под углекислой болтовней светского междусобойчика, прерываемого выкриками состоятельных индюков, повышающих ставки скорее из тщеславия, нежели из-за ценности лота. Ну что за безделица вроде сорокаминутного мастер-класса по бадминтону от личного тренера Медведева? Того самого, даже в бытность тогда главой отечества неубедительного, как воланчик.
Кондиционеры не справлялись. В самый разгар торгов кто-то обратил внимание присутствующих, что в помещении душно. Например, изобразил легкий обморок, – нам не было видно из-за плотно сомкнутых жоп. Открыли окно, потянуло сквозняком. Подышали и сочли, что вышло недостаточно свежо. Открыли еще одно, сквозняк усилился. Нагрянул в гардеробную, надул щеки и дал старт нашим маленьким парусникам к большой регате.
Блядь, любая бумажка к черту катись, но эта… Эти.
Мой напарник сорвался со стула хватать беглецов – куда там. Да и толку.
Я вышел на улицу, перекурить это дело. Отчего-то на ум пришла «Баня» Зощенко: «Ежели каждая сволочь веревок настрижет, польт не напасешься».
Бросил сигарету и отправился в сторону Полянки. Достаточно просветленный, чтоб не париться о таких пустяках.
А через месяц повстречал Иру и на долгое время позабыл о царстве приговоренных.
И вот я здесь, их полномочный представитель и заступник. Заступник от слова лопата: «Послушайте, вы, все, живущие ныне…» Забыл, как там дальше. И хорошо, что забыл. С некоторых пор полюбил открытые финалы. Подставляешь нужное в зависимости от ситуации: «сидите ровно» или «не забрасывайте мастурбации», – и пошли они лесом, мемориалы.
И вот я здесь. Впрягся за тех, кого здесь нет. Крутые у меня интересанты. Одним своим видом способные удручить любой расколбас. И никогда наоборот. Мне бы надменно задрать подбородок. Ан нет, его поскрести бритвой, не потревожив шейных позвонков… Бреюсь раз в неделю или реже, исключительно ради пассажиров. Точнее – пассажирок. Бреюсь для осветления имиджа исходящей от меня угрозы.
Меня вот к концу смены прилично скрючивает на деревянной седушке VW Polo. Затекает правая нога, и я перекладываю вес на левую, приобретая взамен весьма нелепый вид. Кажется, будто рулю я, прилегши на бок и разглядывая город в водильское окошко, а что там в лобовом, меня ничуть не занимает. Это отчасти правда. Правда и то, что многие дамочки ввечеру, приветливо вторгаясь в мою зону комфорта: «Ах, вы не представляете, какое везение – после стольких стремных поездок заполучить водителя славянина!» – вскорости начинают лихорадочно барабанить маникюром по обивке двери. Не представляю. Не так я представляю себе везение. Напротив, вслед за Стивеном Хокингом, чью манеру посадки я поневоле копирую, мне открылся новый вид испарения. Я пока затрудняюсь с его определением, но ведь что-то же улетучивается из этих дамочек, что они отбрасывают маску благодушия и ударяются в нервяк? Вот, что я вижу в зеркало заднего вида: «Господи всемогущий, пусть этот мужлан немедленно прекратит свою стремную оптимизацию под нужды физиологии и держит спину ровно. Ну и что, что славянин. Мне один такой славянин жизнь испортил. А этот и угробить горазд».
И начинается:
– У вас в машине есть радио? – (Умирать, так с музыкой?)
– Тарифом «эконом» не предусмотрено.
– А что предусмотрено тарифом «эконом», позвольте спросить?
– Можем послушать навигатор.
Так отчего же ни на грамм задора в моем пионерском походе к небытию, когда ни нагнуться, ни присесть без молодцеватого треска, будто хворост для костра заламываешь? Глупый вопрос, да?
О да, да, и еще раз – да, – мне по силам до поры до времени схоронить любой скелет в шкафу. Но этот-то во мне, будь он неладен! А я не шкаф и не музей: «А ну-ка, тсс, дамочка! Этот парень со мной!»
Лучше послушаем навигатор, куда он заведет:
Положим, знакомлюсь я с женщиной. Мы идем к ней, потому что сам я живу… Да неважно, как. И по дороге, я:
– Надо зайти в аптеку.
– Не надо.
– Нет, надо.
– Не надо… – И после короткой заминки: – Презервативы у меня есть. – Она сообщает это почти скороговоркой, приглушив голос до смущенного шепота.
– Да не презервативы, беруши.
– Беруши?! – Само собой, удивление: может, ослышалась?
– Ага, они самые.
– Для тебя? – Опять она, но теперь уже с нотками настороженности в голосе. Потому что в повседневных терках, может, и не обязательно, но уж когда ебешь женщину, изволь к ней прислушиваться. Этому меня еще мама научила. Мама моих детей, да и моя, если честно, тоже. Моя вторая мама, топкой тягучей ночью согласия родившая меня наново, как Диониса.
– Нет, для тебя. Ты не должна этого слышать.
– Что, что я не должна слышать? – Тут уж испуг, без вариантов. И мы никуда не идем.
Ну и ладно, у меня от женщин отбою нет. А что есть? Есть у меня в голове крупный отдел, работающий исключительно на воображение. Можно сказать, на оборонку от действительности. А при нем – элитное подразделение, отвечающее непосредственно за баб. Спецназ. Сплошь альфа-самцы. Одна беда – ветераны. Со дня первого набора никакой ротации. Им бы побухать, погрезить о былом, да искупаться в фонтане спермы.
Кстати, где моя провожатая? Мой навигатор по «Турандот».
Вот она! И вправду, ждет не дождется. Вытоптала каблучками едва заметную ложбинку в мраморе. А я заметил, заметил.
Не опутать ли её сетями изощренного флирта? «Право, красавица, ну что за холопский аватар – хостес? Всего лишь второй уровень после прохождения гардеробщика. И уж если жизнь – игра, а хоть бы и внутри компьютерной симуляции, не вознестись ли нам сразу на семнадцатый? Уровень владычицы морской. Обещаю экипировать вас убийственным артефактом – стариком. И каким стариком! С любой рыбой совладает. В порошок сотрет».
Или воздействовать еще тоньше, через изящные искусства? К примеру, с подчеркнуто наигранным неудовольствием попенять ей, что у статуи Посейдона, освящающего мудями входную группу их ресторана, хер недостаточно велик, теряется на их фоне: «А как ни верти, дорогуша, любую входную группу предпочтительней освящать хером. И чем он крупней, тем предпочтительней. Ну ты сама знаешь». И на контрапункте рассказать об одном примечательном скульптурном ансамбле, поразившем меня не так давно в поселке на Новой Риге: «Аполлон на педикюре». Моложавый олимпиец с отрешенным взором бесстыдно распахнул колени, опустив ноги в таз, гладкие, как после эпиляции. А вкруг него хлопочут речные нимфы или дриады, – черт их разберет, не подписано. Кто с кувшином, кто с полотенцем, кто с тактильным вниманием, – все при деле, все при нем. Кажется, он уже что-то сочиняет под их влиянием. Записать вот только не на чем, и рассовать, как фанты, некуда. Все мыслимые одежды он куда-то сдал, а гениталии завесил номерком. Фиговым листочком, податливым дуновенью сквозняка.
Нет-нет, не то. Да и не так. Ведь о чем я тогда подумал ввиду этого вальяжного покровителя муз и граций? Много о чем подумал. Он без срока годности, подумал я, он эту провокацию от скуки долгожительства затеял. Просто трахаться его уже коробит. Всё и всех перепробовал, дальше только день сурка. И еще подумал, что примерь он на себя одежки смертных, отрешенность с его ресниц как ветром сдует, и стишки пойдут на порядок мощнее. А уж я не откажу ему во временной регистрации и отвешу килограмма три шмоток, чтоб не замели за непотребство. Пускай оседлает любую лавку на моем районе и расслабится. Пускай потешит самолюбие незарастающей тропой, самой народной из протоптанных. А как пресытится паломничеством синяков, калек, буйных и прочих эндемиков, и возжелает исключительно муз и граций, – сбиться с ними в спа-ансамбль, – будут ему и музы, и грации, годами не чесанные, сами нуждающиеся в глубокой косметологической переработке. Одна такая не преминула атаковать меня шпилькой, когда я поскупился осыпать ее чеканной монетой. Как тут заскучаешь? Я потому только и не позволяю себе мечтать на скамейках под кронами или в ротондах – всё хожу и хожу, не покладая ног, как мудак, если не таксую или не валяюсь в койке, – а вовсе не потому, что доктор прописал. И все же, и все же: трахаться мне ничуть не надоело. Напротив… Но видите ли, господин Аполлон, сколько я ни затевал предпринимательской деятельности в отношении слабого пола, столько раз сдавал нулевую отчетность. Это как у вас с Дафною (бревно баба, сочувствую). Мне просто слишком везло на женщин с инициативой. Не часто, зато – каких! Сами об меня спотыкались и забирали в оборот. И вдруг никого больше, как отрезало. А ведь с иными искусительницами так сладко быть ведомым. И я не верю, будто все они сублимировали в завоевательниц-беспредельщиц, наподобие той, с заколкой. А верю я, что быть может… ну хоть сегодня… За спрос-то денег не берут:
– Куда дальше?
– Прошу за мной.
Я же говорил.
По округлому периметру общей залы меня проводят вдоль анфилады позолоченных наличников. За развешанными в их проемах портьерами укрываются приватные кабинеты. «Эй, начальник!»
Народу в зале – не меньше, чем в Макдональдсе, однако же… Что не так? Да так. Нет, а все же? Да все не так. Не Макдоналдс. Гул общения мягче, ленивое позвякивание приборов, в посадках тел светская непринужденность… – мгновенье остановилось и скоротечность жизни под вопросом, вот что. А еще – люди. И люди – красивые. Красивые, и всё тут, – то ли в антураже, то ли сами по себе – какая разница?
Красивые люди, да. Быстрый взгляд, брошенный в их трапезу почти украдкой, наполняет меня чувством неловкости, а то и стыда. Красивые люди окружают себя красивыми вещами. А затем, чтоб вещички не спиздили, заборами, тоже красивыми. И я двигаюсь строго по кромке интересов красивых людей, строго вдоль забора. А неловко мне оттого, что я внутри периметра. Собак, само собой, не спустят, и без того выпирает, как крепко я обручил с ними жизнь, но все же.
Все же красивые люди – само воплощение последовательности. Они и едят из красивой посуды, и наложено им туда нечто в высшей степени красивое. Ибо ты – то, что ты ешь.
Гиппократ, сморозивший эту чушь, выставил себя тем еще циником. Почище нашего Чехова. Ага. И в Анатомическом театре аншлаг. Дают «Проклятье Гиппократа». Последнюю часть дилогии «Жизнь от естественных причин». В первой части, «Метаморфозы», безымянный герой набивал брюхо деликатесами и долго игнорировал тревожные знаменья, подаваемые ему хором внутреннего многоголосья. Игнорировал, лицедействуя в упорстве и натужности, так долго, что когда стремительно исчезал в суфлерской будке или присаживался над оркестровой ямой… Само собой, что на подмостках, ввиду эстетического конфликта с публикой, прижилась вторая:
– «Поклянись, что не навредишь!» – взывал к интерну с операционного стола длиннобородый старец. Но тот, окутанный врачебной тайной, лишь демонически ухмылялся, оттачивая скальпель о накрахмаленный рукав халата. Вошла анестезиолог, необутая девочка лет пяти в ситцевом платьице (назовем её Настенька) и стиснула в ладошках сухие пальцы старика: – «Потерпи, дедушка. Будет больно, а ты потерпи. Потому что люди в зале. Красивые люди. Неудобно на людях, понимаешь?» – «А ты кто такая?! Ты, вообще, что ешь?!» – Гиппократ аж привскочил на мгновение, лягнув жесткий настил с обеих лопаток. – «А я, дедушка, ничего не ем. Я нюхаю. И видишь, какая большая вымахала! И еще вымахаю! А как до неба дорасту, спрошу у бога новые сандалии». Девочка шепелявила, еще не полностью возместив утрату молочных коренными, и «большая» вышло у ней «босая». – «Это у которого?» – «А до которого первого дорасту, у того и спрошу». – «Новые сандалии – это хорошо, очень даже хорошо. Но это потом, потом. А пока, дочка, спроси этого, с ножичком, чего ему надобно?» – «А я сама тебе расскажу, хочешь?» – Гиппократ, до того мелко осциллировавший подбородком, внезапно зашелся им в горячем согласии. Да так широко, с такой дворницкой удалью, что прихватил косматым веником бороды лицо девочки. Она зажмурилась и потерла правый глаз кулачком, её щека увлажнилась: – «Забывать тебя стали, старый хрыч, – произнесла она надтреснутым голосом пожилой и озлобленной женщины. – Крепко и насовсем. А мы тебя заново откроем».
Короче, не хочу быть обличителем общественных яств, однако, если ты то, что ты ешь, сколько ж человеческого должно заключаться в фартовом зомби? «Menschliches, Allzumenschliches!» – как восклицал один свихнувшийся фриц. Да в нем даже слишком – человеческого! Слишком! Но это в фартовом. А я не таков. Ничего, окромя заусенцев, толком и не распробовал.
И все же сегодня я подниму за здоровье друга, и не раз, и постараюсь совладать в себе с пожаром амбиций. И да, таксист был прав: я все еще умею шевелить ластами.
Мельком проскальзываю в откинутую провожатой портьеру и оказываюсь в комнате, завешанной гобеленами оттенка потертого тусклого мха. Такими же и наощупь, – я обтер о них вспотевшую ладонь. Воздержался её сырость бросать полотенцам рукопожатий, как сказал бы Маяковский.
Паша, Паша… Патриот Руси в её кондовом изводе, адепт «Домостроя» и завзятый охотник до Сабанеева остановил свой выбор на интерьерах болота. В фарфоровых кувшинках – украшенная свежими лепестками закуска. Чуть в стороне, на ломберном столике, сгрудились бутылки. Бутылки, вот уж обязательный атрибут охоты, как я её запомнил, побывав на ней разок с Пашей и давно упокоившимся Барбеем.
Удивительной, кстати, личностью отметился Барбей на этом свете. Начать с того, что Барбей никакая не кликуха, а так было отмечено в метрике и перекочевало на плоскость гранита. Заполучил однажды в собутыльники престарелого работника спецслужб, страшащегося пенсии с шестью нулями. Открыл тому бессрочный кредит в паленой водке и вскоре обзавелся веером загранпаспортов от Иванова до Сидорова с махровой семитской физиономией на титульном развороте. И под каждым документом прожил некоторую часть своей краткой, яркой и глубоко законспирированной биографии. И под каждым огреб люлей. В основном – за контрабанду и мелкое мошенничество. Ну и за прочие девиации вроде езды в нетрезвом виде: паспорта он использовал и вместо прав тоже.
Итак, у нас было с собой два ящика «Жигулевского», две бутылки «Пшеничной» и неузаконенный обрез. Чего у нас не было, так это лицензии. Как и охотничьего билета, – кто мог поручиться хоть за одного из нас? Тут как с тремя мушкетерами – один за всех, и как раз – по две рекомендации на нос. Поэтому на Барбеевской «четверке» мы отъехали от Москвы километров за сто пятьдесят, прежде чем свернули с шоссе и долго буксовали промеж снежных брустверов, откинутых трактором.
Вышли на воздух, пошукали, хищно прищурившись, зверя, – никого. Исторгли, кто во что горазд, звуки, так или иначе подражавшие фауне, хотя и нездешней. Увы, ни в одном обитателе леса не пробудилось желания попозировать нам на природе, пощеголять хипповыми рогами или топовым полушубком. Всё затаилось и перестало дышать.
Ладно, медведи спали, скворцы улетели, а остальные-то где? Где разнообразие видов? Три придурка с один-на-всех обрезом в окружении крупнокалиберных стволов, постреливающих на морозе, – вот и весь венец эволюционного кошмара? Негусто, негусто. Хоть бы какой заблудший соплеменник потревожил сказочную отмороженность чащи. Мы бы охотно приняли его за лося. И сразу бы повзрослели, уже в юности сокрушаясь ошибкам юности.
Стали опустошать бутылки и соревноваться на них в меткости, экспоненциально затухающей по мере выпитого. Но поскольку пользовали шрапнель, положили всех.
Чуть не вручную развернули «четверку», увязшую в снегах, и отчалили.
Проехали верст тридцать, как вдруг Паша кричит: «Тормози!» – «Что такое!?» – не понял Барбей, но на тормоз надавил. Нас немного занесло. – «Там птица!» – «Где ты в темноте разглядел птицу!?» – «Да точно тебе говорю, сидит на проводе!» Мы осторожно, не хлопая дверьми, покинули авто, опасаясь, как бы трофей не захлопал крыльями. Хм, в натуре, птичка на проводе.
Паша с нежностью сапера преломил двустволку. Снарядил её, спрямил, приглушив ладонью щелчок, прицелился и выстрелил.
Когда дым рассеялся, мы вгляделись в сумрак. Птицы больше не существовало, как и провода. В глубине леса погас маячивший там поселок. Всё, конец фильма – мы без слов поняли друг друга. Сейчас пойдут титры. И если мы не поторопимся, аккурат с нашими фамилиями: Пашиной, моей и какого-нибудь Петрова.
Так и провели два часа в полном молчании: я – на заднем сиденье, в полудреме; Барбей – напряженно вглядываясь в неосвещенную зимнюю дорогу; а Паша… – Паша застыл в кроткой радости блаженного.
Сейчас же он встречал меня в тридцать два лоснящихся зуба. «Где он их достал? Чертов Вронский». А когда представлял свою молодую супругу (вторую по счету): – «Это Аня…» Когда представлял Аню, с прихотливым нажимом рвущуюся из темно-лилового платья, я подумал, что зубов могло быть и побольше.
– Познакомься, Анюточка, это мой самый старинный друг, Володя, о котором я тебе рассказывал.
– Аня, вы заметили, Паша не сказал «самый дорогой». Всегда неплохо разбирался в антиквариате, а со мной просчитался, вкладываясь в меня по-молодости. Многие годы не набили цену, и лот теперь ничего не стоит. – Паша добродушно хмыкнул. Анюточка бровью не повела. Отменная самодисциплина.
А кого, интересно, она ожидала встретить? Илью Резника в волнующей шевелюре, низвергающейся в карманы пальто? Пальто такой кипенной белизны, будто спизжено у снеговика, устроившего уличный стриптиз на бодипозитиве.
А ну-ка тсс, дамочка. И волосы, и польта – всё в гардеробе. Но стишки-то при мне. На все случаи жизни.
Я вытянул Пашу в сторонку. Как бы для передачи подарка:
– Слушай, если заметишь во мне некоторые странности, ну там мычанье, протяженные слюни или сопли, кривой осклаб… Видел маску, олицетворяющую театр? Одна половинка грустит, другая над ней потешается.
– Ты прикалываешься?
– Так вот, с учетом количества гостей, двадцать минут вам на фотки со мной и короткие видео для сториз. Потом вызывай скорую.
– Новый элемент в программе?
– Вроде того.
Пока все рассаживались, я еще раз, теперь уже с вниманием прошелся по лицам. Лица, лица, лица… «Что не так? Некрасивые, что ли?» А вот что. Эти ребята, мои ровесники, многих из которых я знавал когда-то, включая именинника, они выглядели лет на десять моложе меня.
«На десять!? И только!? Да я…» – залепетал я про себя. «Да мне!..» – воспротивилось во мне. «Да внешность ничего не значит! Ровным счетом ничего! Что внешность?! Внешность это так, пшик! Зато в глубине души я всё еще…»
«В глубине души? Серьезно? Зачем же так глубоко копать?» – вновь осаживаю себя и понуро тянусь ложкой к салату. «Ты ведь подстраховался, чтоб не вышло конфуза, правда? Ты сегодня в памперсе. И вчера был в памперсе. А позавчера так вообще, побрезговав кабинкой сортира, менял его в комнате для пеленания. Сущее дитя».
5
Уролог отошел к раковине, деловито стянул с руки латексную перчатку и отправил её в ведро. Включил воду:
– Я не нашел простату увеличенной, но на всякий случай дам направление на онкомаркеры.
– Тогда что это, по-вашему?
– Есть такой синдром, постинсультный страх.
– Так я и до инсульта не отличался отвагой.
– Тут другое.
Он вытер руки бумажным полотенцем, подсел к компьютеру и принялся набивать текст. Тот же палец, что франтовато помахивал тростью у меня в прямой кишке, теперь неуклюже склевывал буковки с клавиатуры. Проба пера. Все с этого начинают.
Время шло, и в какой-то момент показалось, что доктор увлекся, попросту забыв про меня. Неужели, в моей заднице можно наковырять столько впечатлений? Надо попробовать, а то всё музы, музы.
Закончив, он вытянул из стопки бланк рецепта и выписал мне таблетки:
– Два раза в день после еды. Чаще не стоит.
– Чаще и не выйдет.
Дома я загуглил название, прифигел от ценника и полез ниже. Подумаешь, дорого. Истинный замысел писателя не в первой реакции на произведение, а в последующих. Иными словами – в побочных эффектах.
Что же замыслил мой матерый уролог и начинающий автор? Он предлагал сыграть по-крупному: острая диарея. Его можно понять: с точки зрения филологии «наделать в штаны» или «обосраться» от страха – более устоявшиеся языковые формы. Обоссаться позволительно со смеху, а мы с ним в продолжение приема были настроены весьма серьезно и пришли к консенсусу, что мной помыкает страх. С другой стороны, литература занятие опасное. Он знает, чем закончил Пушкин, – все знают, – и не бросается вонючими перчатками в лица посетителей. Он умывает руки. Раком я стал добровольно, оскорбительную эпиграмму в мой адрес, что так долго сочинялась за компом, он не показал. Он корректно отослал меня пригвоздиться к позорному столбу самостоятельно и куда подальше, – вроде как в кабинете и без того хватает неприятных запахов.
У меня в салоне авто и безо всякого дерьма побочки их тоже было предостаточно:
– Не поеду! Не поеду!
– Да почему ж ты не поедешь, Сонечка?
– Плохо пахнет в машине.
– Нельзя так говорить.
– Все равно плохо пахнет! Не поеду!
– Да чем же пахнет!?
– Папой!
Таблетки я похерил и нашел выход в подгузниках. Им всё божья роса, как утверждал производитель. Тем более, что они подарили вторую жизнь коллекции штанов, из которых я выпал не по любви, добавив мне два размера в бедрах. Даже третью, с учетом места их покупки.
– «Мариничев, знаешь, почему тебе не пишется? – Ира отложила мои поползновения с живота на простынь и одернула ночнушку. – Я почитала твои наброски ни о чем…» – «Давай, не сейчас, а?» – «Нет, ничего ты не знаешь и не понимаешь. Ты не понимаешь, что у писателя должна быть ТЕМА! А у тебя её нет. И это страшно с учетом возраста. Если уж не можешь найти работу, надевай штаны и садись, думай над своей темой. Пару месяцев я тебя еще покормлю, а дальше сам». – «А любовь – тема?» – «Да, любовь – тема и очень глубокая». – «Кажется, я свою нашел», – я возобновил экспансию. – «Володь, вот серьезно, если сейчас не уберешь руки, ты ее потеряешь».
Она знала, о чем говорит. И я знал, что она знала. Десять лет мы с ней то сходились, то расходились. Всё наше барахло смешивалось, затем делилось на глаз и вновь вступало в бинарные соединения. И однажды, где-то на исходе первой пятилетки, я обнаружил в своей писанине кое-то любопытное. Пожелтелые, отпечатанные на машинке странички, вложенные в файлик. Ну-ка ну-ка: точно не мое. Гербарий её бедной юности в театральном училище Орла. Выпал, как черт из табакерки, и увлек меня с первой до последней строчки так, что я перечитал его дважды. Рассказ поразительной простоты и силы, без дураков. И уж, конечно, про любовь. Первая любовь и чем она закончилась. Только вот почитаемому ею Тургеневу не нашлось в нем место. Ему сделалось дурно еще в парадном орловского абортария. Я прошел значительно дальше, прямиком к гинекологическому креслу, но и мне под конец будто выпустили кишки наружу.
Ладно, кишки наружу это так, первая реакция. Куда чувствительней последующая. Оказывается, всё это время я спал с человеком незаурядного литературного дарования. Ну спал и спал. Женщина с воображением – как раз в зачет качеству секса. Скверно, что когда бодрствовал, строил из себя непризнанного гения. Подолгу бездельничал, наполняя стакан с первым лучом солнца, устраивал скандалы. В общем, нащупывал подходы к шедевру по заезженным лекалам и сильно обмишурился с выбором роли и её трактовкой. Что и говорить, прескверное ощущение.
Это тогда, а теперь вон, в отсутствии темы, дописался до памперсов: «За мной, читатель! Я покажу тебе настоящую любовь! А, нет, стой пока, где стоишь, мне нужно отлить». Об ощущениях промолчу.
В литературный я поступал по классу поэзии. Согласен, звучит не совсем как фортепьяно. Совсем не звучит. А на слух воспринимается так и вовсе спорно. Настолько спорно, что нам по средам выделяли аж две пары для выяснения отношений. Четыре часа буйства высоких регистров именовались «семинар мастера». Мастер наличествовал, присматривая за нами и осуществляя судейство. Да, в основном – молчаливое, но в молчании его заключалось на порядок больше порядка, чем в окриках повиновения, когда-то сопутствовавших нашему щенячеству. Послушает, как мы надираем глотки, точно соседи, не поделившие предбанник, зачерпнет из глаз, как из колодцев, и понесет на коромысле бровей в самое пекло полемики. С одного ведра плеснет скуки смертной, с другого – тоски зеленой: «was ist das». В общем, обдаст нас самым необходимым, – всем тем, чего нам так не хватало, воинственно отстаивающим эпитет «гений» от затасканности и обходящимся сдержанными эвфемизмами к нему: «жалкое эпигонство», «детский сад» или «полное говно». На то он и мастер. Человек, на ногах перенесший «высокую болезнь». Знающий, что старое доброе водолечение от шизы исподволь расставит всё по своим местам: и жалкое эпигонство, и детский сад, и полное говно.





