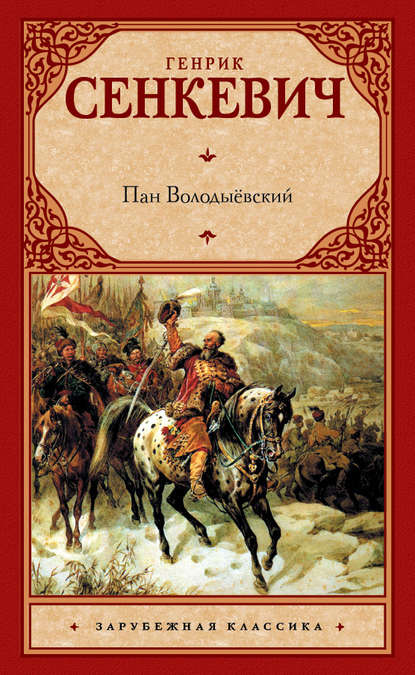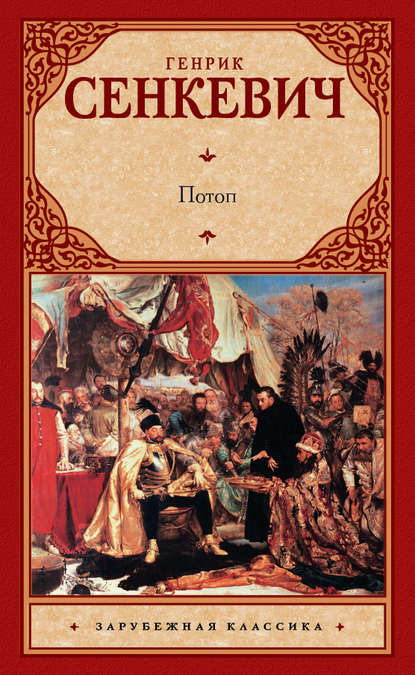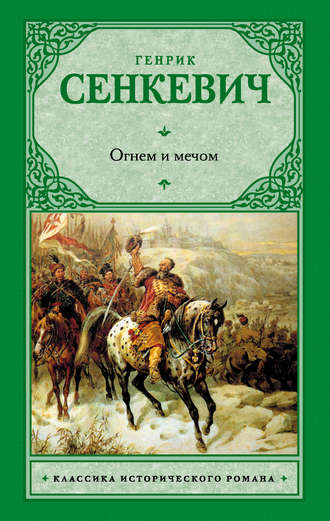
Полная версия
Огнем и мечом
Все они теснились по лавкам, стоявшим вдоль длинных дубовых столов, и шумно разговаривали, и всё о необычайном происшествии – взбудоражившем город побеге Хмельницкого. Скшетуский с Зацвилиховским сели сам-друг в уголку, и наместник стал расспрашивать, что за птица такая этот Хмельницкий, о котором столько разговоров.
– Неужто, сударь, не знаешь? – удивился старый солдат. – Это писарь запорожского войска, субботовский барин и… – добавил он тихо, – мой кум. Мы с ним давно знаемся и во многих баталиях побывали, в каковых он себя изрядно показал, особенно под Цецорой. Солдата, столь в ратном деле искушенного, во всей Речи Посполитой, пожалуй, не найдешь. Вслух сейчас такого не скажи, но это гетманская голова – человек великой хватки и большого ума; казачество к нему больше, чем к кошевым и атаманам прислушивается. Он человек не без добрых свойств, однако заносчивый, неуемный и, если ненависть им овладеет, страшен сделаться может.
– Зачем же он из Чигирина сбежал?
– Грызлись они со старостишкой Чаплинским, но это пустое! Как водится, шляхтич шляхтича со свету сживал. Не он первый, и не его первого. Еще говорят, что он с женкой старостишкиной путался; староста у него отбил полюбовницу и на ней женился, а он потом снова баламутил ее. И такое очень даже возможно; дело обыкновенное… бабенка бедовая. Но это только видимость, за которою кое-что поважнее скрывается. Тут, сударь, все обстоит вот как: в Черкассах живет полковник казацкий, престарелый Барабаш, друг нам. У него хранились привилегии и какие-то королевские рескрипты, в которых казаков якобы сопротивляться шляхте склоняли. Но поскольку старик – человек разумный и дельный, он бумагам ходу не давал и обнародовать не спешил. И вот Хмельницкий, Барабаша на угощение сюда, в чигиринский дом свой, пригласив, послал людей на его хутор, чтобы сказанные грамоты да привилегии у жены его захватили, а потом с указами этими сбежал. Подумать страшно, что ими смута какая, вроде Остраницовой, воспользоваться может, ибо repeto[6]: человек он страшный, а исчез неведомо куда.
Скшетуский удивленно сказал:
– Ну лиса! Вокруг пальца меня обвел. Назвался казацким полковником князя Доминика Заславского. Я же его, нынешней ночью в степи встретив, из удавки вызволил!
Зацвилиховский даже за голову схватился.
– Господи, что ты говоришь, сударь? Такого быть не может!
– Очень даже может, раз было. Он назвался полковником князя Доминика Заславского и сказал, что в Кудак к пану Гродзицкому от великого гетмана послан. Правда, я этому не очень-то и поверил, потому что не водою он шел, а степью.
– Сей человек хитер, как Улисс! Но где же ты его встретил, сударь?
– У Омельника, на правом берегу Днепра. Надо думать, он на Сечь ехал.
– А Кудак решил миновать. Теперь intelligo[7]. Людей много было при нем?
– Человек сорок. Да только они поздно подъехали. Когда бы не мои, старостишкина челядь его бы удавила.
– Погоди, сударь, погоди. Это дело важное. Старостишкина челядь, говоришь?
– Ну да. По его словам.
– Откуда же тот знал, где искать, если в городе все голову ломают, куда Хмельницкий подевался?
– Этого я сказать не могу. А может, он солгал, выставив обыкновенных душегубов слугами старостишки, чтобы тем самым еще более обиды свои подчеркнуть?
– Такого быть не может. Однако дело весьма удивительное. А известно ли тебе, сударь, что имеются гетманские указы – Хмельницкого ловить и in fundo[8] задерживать?
Наместник не успел ответить, потому что в это мгновение, производя страшный шум, вошел какой-то шляхтич. Хлопнув дверьми и раз, и другой, он спесиво оглядел присутствующих и закричал:
– Всем привет, милостивые государи!
Был этот шляхтич лет сорока, ростом невысокий, с выражением лица запальчивым, чему много способствовали беспокойные и, точно сливы, сидевшие подо лбом глаза. Вошедший был, как видно, непоседлив, буен и скор до гнева.
– Всем привет, милостивые государи! – сразу не получив ответа, повторил шляхтич еще громче и резче.
– Привет, привет! – отозвались несколько голосов.
Это и был Чаплинский, чигиринский подстароста, доверенный слуга молодого пана хорунжего Конецпольского.
В Чигирине подстаросту не любили, поскольку был он первейшим забиякой, буяном и склочником; но, зная о благоволении к нему власть предержащих, кое-кто с человеком этим знался и водился.
Одного лишь Зацвилиховского, как, впрочем, и все остальные, он уважал ввиду добродетелей, основательности и храбрости последнего. Завидев старика, он тотчас подошел и, весьма высокомерно поклонившись Скшетускому, уселся со своим стаканом меда рядом с ними.
– Досточтимый староста, – спросил Зацвилиховский, – не слыхать ли чего о Хмельницком?
– Висит, досточтимый хорунжий, не будь я Чаплинский! А ежели до сей поры не висит, то будет висеть непременно. Теперь, когда есть гетманские указы, дай мне только заполучить его в руки!
Говоря это, он так хватил по столу, что из стаканов выплеснулось содержимое.
– Не проливай, сударь, вина! – сказал Скшетуский.
Зацвилиховский прервал наместника:
– А заполучишь ли ты его? Ведь он сбежал, а куда, никто не ведает.
– Никто не ведает? Я ведаю, не будь я Чаплинский! Ты, господин хорунжий, небось знаешь Хведька. Так этот самый Хведько и ему служит, и мне. И будет он иудою Хмелю. Да чего там много говорить! Стал Хведько водиться с молодцами Хмельницкого. Человек пройдошливый! Все про него узнал! Взялся он доставить мне Хмельницкого живым или мертвым и выехал в степь загодя, зная, где его дожидаться!.. А, чертово семя!
Сказавши это, он снова ударил кулаком по столу.
– Не проливай, сударь, вина! – нажимая на каждое слово, повторил пан Скшетуский, с первого взгляда почувствовавший безотчетную антипатию к подстаросте.
Шляхтич побагровел, сверкнул выкаченными своими глазами, полагая, что ему дают повод, и вызывающе воззрился на Скшетуского, однако, увидев мундир Вишневецких, одумался, ибо, хотя у хорунжего Конецпольского в то время была с князем пря, Чигирин тем не менее находился недалеко от Лубен, и оскорблять княжеских людей было небезопасно. К тому же князь и людей подбирал таких, задираться с которыми следовало подумавши.
– Значит, Хведько взялся Хмельницкого тебе доставить? – снова стал спрашивать Зацвилиховский.
– Именно. И доставит, не будь я Чаплинский…
– А я твоей милости могу сказать: не доставит. Хмельницкий ловушки избежал и на Сечь подался, о чем еще сегодня следует известить краковского пана нашего. С Хмельницким лучше не шутить. Короче говоря, и умом он быстрее, и рука его потяжеле, и удачи у него поболе, чем у твоей, сударь, милости, ибо очень ты в раж входишь. Хмельницкий, повторяю, отбыл в безопасности, а если не веришь, тогда этот кавалер подтвердит, который его в степи вчера видел и, с целым и невредимым, с ним разъехался.
– Не может такого быть! Не может быть! – завизжал, дергая себя за чуб, Чаплинский.
– Более того, – продолжал Зацвилиховский, – кавалер, здесь присутствующий, сам же его и спас, а слуг твоей милости перебил, в чем, несмотря на гетманские указы, не виноват, так как из Крыма с посольством возвращается и про указы не знал; видя же человека, грабителями, как он решил, в степи обижаемого, поспешил ему на помощь. О сказанном спасении Хмельницкого заранее тебя, сударь, предупреждаю, так как он с запорожцами непременно тебя в экономии твоей навестит, и надо полагать, что ты этому не обрадуешься. Слишком уж ты с ним цапался. Тьфу, черти бы вас побрали!
Зацвилиховский тоже не любил Чаплинского.
Чаплинский вскочил и от ярости слова не мог сказать. Лицо его совсем побагровело, а глаза еще сильнее выпучились. Стоя в таком виде перед Скшетуским, он стал бессвязно выкрикивать:
– То есть как? Ты… невзирая на гетманские распоряжения!.. Я те, сударь… Я те, сударь…
А Скшетуский даже и со скамьи не привстал; опершись на локоть, он глядел на наскакивавшего Чаплинского, как сокол на привязанного воробья, и наконец спросил:
– С чего ты, сударь, ко мне прицепился, точно репей к собачьему хвосту?
– Да я тебя к ответу… Не слушаешься указа… Я вашу милость казаками!..
Подстароста так орал, что шум в погребке несколько утих. Люди стали поворачиваться к Чаплинскому. Он всегда искал ссоры, уж такая это была натура, и с каждым встречным скандалил; но сейчас всех удивило, что разошелся он при Зацвилиховском, которого одного и боялся, а задрался с жолнером, одетым в форму Вишневецких.
– Уймись, сударь, – сказал старый хорунжий. – Сей кавалер пришел со мною.
– Я те… те… тебя в суд… в колодки!.. – продолжал вопить Чаплинский, не обращая ни на что и ни на кого внимания.
Тут уже и пан Скшетуский тоже поднялся во весь свой рост, однако сабли из ножен не вытащил, а, подхватив ее, свисавшую с пояса на двух перевязях, посередке, поднял таким образом, что рукоять с маленьким крестиком подъехала к носу Чаплинского.
– А понюхай-ка это, сударь, – холодно сказал он.
– Бей, кто в Бога верует!.. Люди!.. – крикнул Чаплинский, хватаясь за эфес.
Но своей сабли выхватить не успел. Пан Скшетуский, повернув его на месте, одною рукою схватил за шиворот, другою – пониже спины за шаровары, поднял в воздух и, с рвущимся, точно кубарь, из рук, пошел с ним между скамей к дверям, возглашая:
– Панове-братья, дорогу рогоносцу! Забодает!
Сказавши это, он добрался до дверей, ударил в них Чаплинским, распахнул их таким манером и вышвырнул подстаросту вон.
Затем спокойно вернулся и сел на свое место рядом с Зацвилиховским.
В погребке во мгновение сделалось тихо. Сила, какую только что продемонстрировал Скшетуский, произвела на всю шляхту громадное впечатление. Спустя минуту всё вокруг сотрясалось от смеха.
– Vivant[9] вишневичане! – кричали одни.
– Сомлел, сомлел и в крови весь! – восклицали другие, выглядывавшие на улицу, любопытствуя узнать, что предпримет Чаплинский. – Слуги его поднимают!
Лишь немногие, те, кто считался сторонниками подстаросты, молчали и, не решаясь вступиться за него, хмуро поглядывали на наместника.
– Только и скажешь, что в пяту гонит эта гончая! – промолвил Зацвилиховский.
– Да какая там гончая? Дворняга! – возгласил, приближаясь, тучный шляхтич с бельмом на глазу, имевший во лбу дырку величиной с талер, в которой посвечивала голая кость. – Дворняга он, не гончая! Позволь, сударь, – продолжал шляхтич, обращаясь к Скшетускому, – быть к твоим услугам. Имя мое – Ян Заглоба. Герб – Вчеле, в чем любой легко может убедиться хоть по этой вот дырке, какую в челе моем разбойная пуля проделала, когда я в Святую Землю за грехи молодости по обетованию ходил.
– Имей совесть, ваша милость! – сказал Зацвилиховский. – Ты же рассказывал, что тебе ее в Радоме кружкой пробили.
– Истинный бог, разбойная пуля! В Радоме другая история случилась.
– Давал ты, ваша милость, обет сходить в Святую Землю… оно возможно, но что тебя там не было – это наверняка.
– Да! Не было! Ибо в Галате уже страдания мученические принял! Пусть я не шляхтич, пусть я пес паршивый буду, если вру!
– Оно и брешешь, и брешешь.
– Последним прохвостом будучи, предаю себя в руки ваши, сударь наместник.
Тут и другие стали подходить знакомиться с паном Скшетуским и чувства ему свои выражать. Мало кто любил Чаплинского, и все были довольны, что тому такая конфузия приключилась. Сейчас, не поразмыслив и не удивившись, невозможно поверить, что и вся окрестная чигиринская шляхта, и те, кто помельче – владельцы слобод, наемщики экономий, – чего там! – даже люди Конецпольских, – все, как оно по соседству бывает, зная о распрях Чаплинского с Хмельницким, были на стороне последнего, ибо Хмельницкий слыл знаменитым воином, немалые заслуги в разных баталиях снискавшим. Известно было также, что сам король поддерживал с ним отношения и высоко ценил его мнение. Случившееся же воспринимали как обычную свару шляхтича со шляхтичем, а подобные свары исчислялись тысячами, и особенно в землях русских. На сей раз, как всегда, приняли сторону того, кто умел завоевать себе больше симпатий, не загадывая, какие из этого могут проистечь страшные последствия. Лишь много позже сердца запылали ненавистью к Хмельницкому; причем одинаково сердца шляхты и духовенства обоих обрядов.
Итак, все подходили к Скшетускому с квартами, говоря: «Пей же, пане-брате! Выпей и со мною! Да здравствуют вишневичане! Такой молодой, а уже в поручиках у князя. Vivat[10] князь Иеремия, всем гетманам гетман! Куда угодно пойдем с князем Иеремией! На турок и татар! В Стамбул! Да здравствует милостиво царствующий над нами Владислав Четвертый!» Громче всех кричал пан Заглоба, готовый даже в одиночку перепить и перекричать целый регимент.
– Досточтимые господа! – вопил он, так что стекла в окошках звенели. – Уж я на его милость султана подал в суд за насилие, до которого он допустил произойти со мною в Галате.
– Не городи ты, ваша милость, чушь всякую, язык пожалей!
– То есть как, досточтимые господа? Quatuor articuli judicii castrensis: stuprum, incendium, latrocinium et vis armata alienis aedibus illata[11]. А разве же не было это vis armata?[12]
– Чистый глухарь ты, сударь.
– А я и в трибунал его!
– Уймись же, ваша ми…
– И кондемнату получу, и подлецом его оглашу; вот тебе и война, но уже с приговоренным к бесчестию.
– Здоровье ваших милостей!
Некоторые, однако, смеялись, а с ними и пан Скшетуский – ему уже малость ударило в голову; шляхтич же и в самом деле, точно глухарь, который собственным голосом упивается, не умолкая, токовал далее. К счастью, тирады его были прерваны другим шляхтичем, который, приблизившись, дернул болтуна за рукав и сказал с певучим литовским выговором:
– Так познакомь же, сударь добрый Заглоба, и меня с паном наместником… Познакомь же!
– Обязательно! Непременно! Позволь, ваша милость наместник, – это господин Сбейнабойка.
– Подбипятка, – поправил шляхтич.
– Один черт! Герба Сорвиштанец.
– Сорвиглавец, – поправил шляхтич.
– Один черт! Из Пёсикишек.
– Из Мышикишек, – поправил шляхтич.
– Один черт. Nescio[13], что бы я предпочел. Мышьи кишки или песьи. Но жить – это уж точно! – ни в каких не желаю, ибо и отсидеться там трудновато, и покидать их конфузно. Ваша милость! – продолжал он объяснять Скшетускому, указывая на литвина, – вот уже неделю пью я на деньги этого шляхтича, у какового за поясом меч столь же тяжеловесный, сколь и кошель, а кошель столь же тяжеловесный, сколь и разум, но если поил меня когда-нибудь больший чудак, пусть я буду таким же болваном, как тот, кто за меня платит.
– Ну, объехал его! – смеясь, кричала шляхта.
Однако литвин не сердился, он только отмахивался, тихо улыбался и повторял:
– От, будет уж вам, ваша милость… с л у х а т ь гадко!
Скшетуский с интересом приглядывался к новому знакомцу, и в самом деле заслуживавшему называться чудаком. Это был мужчина росту столь высокого, что головою почти касался потолочных бревен; небывалая же худоба делала его и вовсе долговязым. Хотя весь он был кожа да кости, широкие плечи и жилистая шея свидетельствовали о необычайной силе. На удивление впалый живот наводил на мысль, что человек этот приехал из голодного края, однако одет он был изрядно – в серую свебодзинского сукна, ладно сидевшую куртку с узкими рукавами и в высокие шведские сапоги, начинавшие на Литве входить в употребление. Широкий и туго набитый лосевый пояс, не имея на чем держаться, сползал на самые бедра, а к поясу был привязан крыжацкий меч, такой длинный, что мужу тому громадному почти до подмышек достигал.
Но испугайся кто меча, тот бы сразу успокоился, взглянув на лицо его владельца. Оно, будучи, как и весь облик этого человека, тощим, украшалось двумя обвисшими бровями и парою таково же обвислых льняного цвета усищ; однако при этом было столь открыто, столь искренно, словно лицо ребенка. Помянутая обвислость усов и бровей сообщала литвину вид одновременно озабоченный, печальный и потешный. Он казался человеком, которым все помыкают, но Скшетускому понравился с первого взгляда за эту самую открытость лица и ладную воинскую экипировку.
– Пане наместник, – сказал тощий шляхтич, – значит, ваша милость от господина князя Вишневецкого?
– Точно.
Литвин благоговейно сложил руки и возвел очи горе.
– Ах, что за воитель это великий! Что за рыцарь! Что за вождь!
– Дай Боже Речи Посполитой таких побольше.
– Истинно, истинно! А не можно ли под его знамена?
Тут в разговор ввязался Заглоба:
– И заимеет князь два вертела для кухни: один из этого сударя, другой из его меча; а может, наймет вашу милость заплечных дел мастером или повелит на вашей милости разбойников вешать. Нет! Скорее всего он сукно мундирное станет мерить! Тьфу! Ну как тебе, сударь, не совестно, будучи человеком и католиком, ходить длинным, словно serpens[14] или басурманская пика!
– С л у х а т ь гадко, – терпеливо сказал литвин.
– Как же, сударь, величать вас? – спросил Скшетуский. – Когда вы представились, пан Заглоба так вашу милость подъедал, что я, прошу прощения, ничего не смог разобрать.
– Подбипятка.
– Сбейнабойка.
– Сорвиглавец из Мышикишек.
– Чистая умора! Хоть он мне и вино ставит, но если это не языческие имена, значит, я распоследний дурень.
– Давно ваша милость из Литвы?
– Вот уж две недели, как я в Чигирине. А узнавши от пана Зацвилиховского, что ты, сударь, тут проезжать будешь, дожидаюсь, чтобы с твоею протекцией князю просьбу свою представить.
– Но скажи, ваша милость, потому что очень уж мне любопытно, зачем ты этот меч палаческий под мышкой носишь?
– Не палаческий он, сударь наместник, а крыжацкий; а ношу его – ибо трофей и родовая реликвия. Еще под Хойницами служил он в руце литовской – вот и ношу.
– Однако махина нешуточная и тяжела, должно быть, страшно. Разве что оберучь?
– Можно и оберучь, а можно и одною.
– Позволь глянуть!
Литвин вытащил меч и подал Скшетускому, однако у того сразу же повисла от тяжести рука. Ни изготовиться, ни взмахнуть свободно. Двумя еще куда ни шло, но тоже оказалось тяжеловато. Посему пан Скшетуский несколько смешался и обратился к присутствующим:
– Ну, милостивые государи! Кто перекрестится?
– Мы уже пробовали, – ответило несколько голосов. – Одному пану комиссару Зацвилиховскому в подъем, но и он крестное знамение не положит.
– А сам ты, ваша милость? – спросил пан Скшетуский, оборотившись к литвину.
Шляхтич, точно тростинку, поднял меч и раз пятнадцать взмахнул им с величайшей легкостью, аж в корчме воздух зафырчал и ветер прошел по лицам.
– Помогай тебе Бог! – воскликнул Скшетуский. – Всенепременно получишь службу у князя!
– Господь свидетель, что я желаю ее, а меч мой на ней не заржавеет.
– Зато мозги окончательно, – сказал пан Заглоба. – Ибо не умеешь, сударь, таково же и мозгами ворочать.
Зацвилиховский встал, и они с наместником собрались было уходить, как вдруг вошел белый, точно голубь, человек и, увидев Зацвилиховского, сказал:
– Ваша милость хорунжий, а у меня как раз к тебе дело!
Это и был Барабаш, черкасский полковник.
– Пошли тогда на мою квартиру, – ответил Зацвилиховский. – Здесь уже таковой шум, что и слова не расслышишь.
Оба вышли, а с ними и пан Скшетуский. Сразу же за порогом Барабаш спросил:
– Есть известия о Хмельницком?
– Есть. Сбежал на Сечь. Этот офицер видал его вчера в степи.
– Значит, не водою поехал? А я гонца в Кудак вчера отправил, чтобы перехватили, и, выходит, зря.
Сказавши это, Барабаш закрыл ладонями лицо и принялся повторять:
– Э й, с п а с и Х р и с т е! С п а с и Х р и с т е!
– Чего ты, сударь, печалишься?
– А знаешь ли ты, что он у меня коварством вырвал? Знаешь, что значит таковые грамоты на Сечи обнародовать? С п а с и Х р и с т е! Если король войны с басурманами не начнет, это же искра в порох…
– Смуту, ваша милость, пророчишь?
– Не пророчу, но вижу ее. А Хмельницкий пострашнее Наливайки и Лободы.
– Да кто же за ним пойдет?
– Кто? Запорожье, реестровые, мещане, чернь, хуторяне и вон – эти!
Полковник Барабаш указал рукою на майдан и снующий там народ. Вся площадь была забита могучими сивыми волами, которых перегоняли в Корсунь для войска, а при волах состоял многочисленный пастуший люд, так называемые чабаны, всю свою жизнь проводившие в степях и пустынях, – люди совершенно дикие и не исповедовавшие никакой религии; religionis nullius, как говаривал воевода Кисель. Меж них бросались в глаза фигуры, скорее похожие на душегубов, нежели на пастухов, звероподобные, страшные, в лохмотьях всевозможного платья. Большинство было облачено в бараньи тулупы или в невыделанные шкуры мехом наружу, распахнутые и обнажавшие, хоть пора была и зимняя, голую грудь, обветренную степовыми ветрами. Каждый был вооружен, но самым невероятным оружием: у одних имелись луки и сайдаки, у других – самопалы, по-казацки именуемые «пищали», у третьих – татарские сабли, а у некоторых косы или просто палки с привязанной на конце лошадиной челюстью. Тут же сновали не менее дикие, хотя лучше вооруженные низовые, везущие на продажу в лагерь сушеную рыбу, дичину и баранье сало; еще были чумаки с солью, степные и лесные пасечники да воскобои с медом, боровые поселенцы со смолою и дегтем; еще – крестьяне с подводами, реестровые казаки, белгородские татары и один бог знает кто еще, какие-то побродяги – с i р о м а х и с края света. По всему городу полно было пьяных; на Чигирин как раз приходилась ночевка, а значит, и гульба. По всей площади раскладывали костры, там и тут пылали бочки со смолою. Отовсюду доносились гомон и вопли. Пронзительные голоса татарских дудок и бубнов мешались с ревом скота и с тихогласным звучанием лир, под звон которых слепцы пели любимую тогда песню:
Соколе ясний,Брате мiй рiдний,Ти високо лiтаэш,Ти далеко видаэш.Одновременно с этим раздавалось «ух-ха! ух-ха!» – дикие выкрики перемазанных в дегте и совершенно хмельных казаков, пляшущих на майдане трепака. Все вместе выглядело жутко и неукротимо. Зацвилиховскому достаточно было одного взгляда, чтобы убедиться в правоте Барабаша – любой повод мог разбудить эти неудержимые стихии, скорые до грабежа и привычные к стычкам, без счета случавшимся по всей Украине. А за толпами этими была еще Сечь, было Запорожье, пусть с некоторых пор смирённое и после Маслова озера обузданное, но в нетерпении грызущее удила, не забывшее давних привилегий, ненавидящее комиссаров и являвшее собой сплоченную силу. На стороне этой силы были симпатии несчислимого крестьянства, менее терпеливого, чем в других областях Речи Посполитой, поскольку под боком у него был Чертомлык, а на Чертомлыке – безвластие, разбой и воля. Так что пан хорунжий, хотя сам был русином и преданным восточного обряда сторонником, печально задумался.
Человек старый, он хорошо помнил времена Наливайки, Лободы, Кремпского; украинскую вольницу знал на Руси лучше любого другого, а зная еще и Хмельницкого, понимал, что тот стоит двадцати Лобод и Наливаек. Поэтому понял он и всю опасность его на Сечь побега, особенно же с королевскими грамотами, про которые Барабаш рассказывал, что в них содержатся различные посулы казакам и призыв к сопротивлению.
– Господин черкасский полковник! – сказал он Барабашу. – Тебе бы, сударь, следовало на Сечь ехать, влиянию Хмельницкого противустать и умиротворять, умиротворять!
– Сударь хорунжий! – ответил Барабаш. – Я вашей милости сообщу вот что: всего лишь узнав о побеге Хмельницкого с грамотами, половина моих черкасских людей нынешней ночью на Сечь сбежала. Мое время прошло. Мне – могила, не булава!
И действительно, Барабаш был солдат бывалый, но человек старый и влияния не имевший.
За разговором дошли до квартиры Зацвилиховского. Старый хорунжий обрел меж тем в мыслях спокойствие, свойственное его голубиной душе, и, когда все уселись за штофом меду, сказал веселее:
– Все это безделица, ежели война, как поговаривают, с басурманом praeparatur[15], а так оно вроде бы и есть; ибо, хотя Речь Посполитая войны не желает и немало уже сеймы королю крови попортили, король, однако, на своем настоять может. Так что весь этот пыл можно будет повернуть на турка, и – в любом случае – у нас есть время. Я сам поеду изложить дело к краковскому пану нашему и буду просить, чтобы возможно ближе подтянулся к нам с войском. Добьюсь ли чего, не знаю, ибо хотя он повелитель доблестный, а воин опытный, но слишком уж полагается и на свое мнение, и на свое войско. Ты, ваша милость господин черкасский полковник, держи казаков в руках, а ты, ваша милость господин наместник, как прибудешь в Лубны, проси князя, чтобы с Сечи глаз не спускал. Пусть бы там и замыслили что заварить – repeto: у нас есть время. На Сечи народу сейчас мало: за рыбой и за зверем все поразбрелись либо по всей Украине в селах сидят. Пока соберутся, много в Днепре воды утечет. Да и княжеское имя страх наводит; а как узнают, что он на Чертомлык поглядывает, может, и будут сидеть тихо.