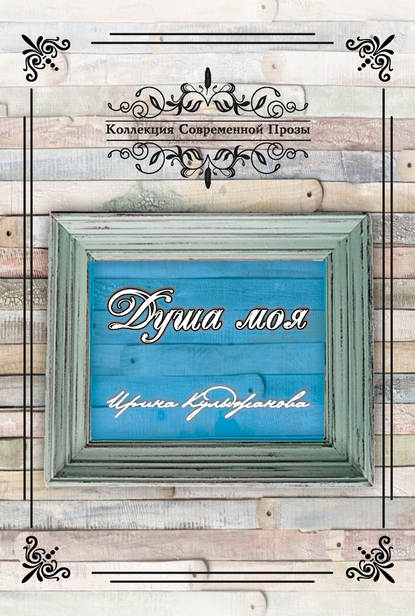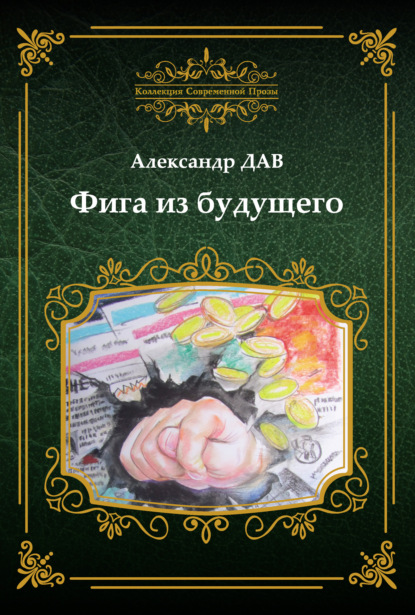Полная версия
Иегуда Галеви – об изгнании и о себе
Еврейская община на территории Персии, где создавался Вавилонский Талмуд, пользовалась автономией; встречались города, большинство жителей которых были иудеями. Опять же, вавилоняне имели перед собой текст Иерусалимского Талмуда, который составлялся на основе информации, передававшейся из поколения в поколение, начиная с того, которое стояло у горы Синай. Одним словом, учли опыт прошедших веков и внесли в него соответствующие дополнения и изменения. Так, из Иерусалимского Талмуда, написанного в Земле Израиля, было исключено большинство законов, касающихся сельского хозяйства и не имевших значения в Вавилоне. Речь идёт не только об обработке земли, но и о том, что крестьянин обязан был оставлять бедным упавшие колоски, забытые снопы и несжатым край поля. Однако при этих, казалось бы, отвечающих времени изменениях, мне больше по душе Иерусалимский Талмуд: ведь мы вернёмся на свою землю и снова обратимся к установленным правилам обработки полей. Мы, в отличие от исчезнувших народов, живы и не расстаёмся с надеждой возродить свою страну. Песней звучат в душе только что сложившиеся строчки стихов:
Уходят царства, но твоя коронаИз рода в род сиянье излучает!Как счастлив тот, кто после всех скитанийЗемле заветной жизнь свою вручает!Как счастлив тот, кто твой рассвет увидит,Кто новый день твой страстно возвещает!Увидит он, как юность твой СоздательТвоим цветущим нивам возвращает![28]
Конечно, я понимаю достоинства и Вавилонского Талмуда, ценю медицинские, исторические и религиозно-философские сведения в нём, но при этом отдаю предпочтение Иерусалимскому, ибо не расстаюсь с мыслью, что только в своей стране станем независимыми от чужеродных правителей.
В 1103 году Исаак Альфаси умер. Я написал эпитафию на смерть мудреца:
Горы в день Синая в честь твою гремели,Божьи ангелы тебя повстречали,И начертали Тору на скрижалях твоего сердца,И лучший венец свой на главу твою возложили.[29]Со смертью учителя закончилось моё пребывание в ешиве, считавшейся оплотом еврейской учёности; не случайно в окрестности Лусены стекались мои единоверцы ещё в давние времена.
Отец, удовлетворённый моим образованием, отпустил в свободное плавание. Он по-прежнему готов ссужать меня деньгами, однако, надеюсь, в этом не будет необходимости; медицинская практика принесёт верный доход. Ведь я достаточно подготовлен к работе; знаю, как вправлять вывихи, пускать кровь, запасся травами от желудочных колик, кашля и прочих недугов. В тетрадь лекарственных средств внёс недавно найденные сведения о целительных свойствах вина: разведённое в разных пропорциях, оно благотворно влияет на состояние человека. Больше всего мне удаются беседы об умении владеть своими страстями. Как результат – обещаю долголетие. При этом нужно принимать во внимание темперамент человека. В любом случае буду следовать не утратившим злободневности наставлениям Гиппократа: «не сближаться с пациентами и не быть с ними слишком строгим». Подобно своему современнику Авиценне, он же Ибн Сина, ушедшему в лучший мир всего лишь за пятьдесят лет до моего рождения, я не разделяю практическую и теоретическую части медицины. Будучи учёным, врачом и философом, Авиценна обобщил опыт греческих, римских и восточных эскулапов. Он первый по изменению пульса определял душевное состояние больного. В «Каноне врачебной науки» он писал: «Безделье и праздность не только рождают невежество, они в то же время являются причиной болезни». Он же, будучи поэтом, жаловался, что слишком занят медициной, чтобы посвятить себя стихам. Вот и я не могу позволить себе предаться поэзии, которая чуть ли не с детства влечёт меня. Строчки непроизвольно складываются в голове, часто требуется усилие, чтобы переключить внимание на жалобы больного. Стараясь стать достойным продолжателем дела Авиценны, самостоятельно изучил его канон, где он пишет, что «врач должен обладать глазами сокола, руками девушки, мудростью змеи и сердцем льва». Целитель и мудрец, он говорил, что интеллект и благородные мысли не умирают, а собираются в некое хранилище. Ибн Гвироль также полагал, что окружающая Землю сфера сохраняет лучшие в мире мысли и дела.
При размышлении о мироздании тот и другой мечтали о любви. При этом ибн Гвироль сознавал свою обречённость на одиночество, ещё в юности писал: «Как встретить старость грустную тому, кто одинок все дни подряд?..» Он уповал на отдохновение в другом мире. Вот и Авиценна писал: «Кто на земле блаженств не ищет, тот их в небесах навечно обретёт».
Грезил любовью мой современник Омар Хайям, сочетая в стихах юмор с чуть ли не трагическим настроем:
Я терплю издевательства неба давно,Может быть, за терпенье в награду оноНиспошлёт мне красавицу лёгкого нраваИ тяжёлый кувшин ниспошлёт заодно?[30]Ибн Гвироль словно оправдывался в не нашедшей реализации страсти:
Поместил Ты в меня душу святую, а янаклонностью своей злой осквернил её и загрязнил…Но искуситель мой злой стоит по правую руку, чтобсовратить меня,не позволяя мне взбодрить дух мой и подготовитьмой покой.И уж давно веду его в двойной узде, рассчитывая истараясь вернуть егоиз моря страсти на сушу, – и не могу.[31]
Наши философские взгляды формируются жизнью, понятно желание моего любимого целомудренного поэта освободиться от мучений плоти и перейти к чистой духовности. Я всё чаще обращаюсь к его стихам, живу в двух мирах: с одной стороны – забочусь о накоплении медицинских знаний, с другой – рифмую строчки. Стихи пишу на иврите, о котором основоположник еврейской рационалистической философии Саадия Гаон сказал: «Язык святыни избран для нас Богом испокон веку, на нём воспевают славу Господу ангелы, на нём воспевают Господа все дети Всевышнего». Вот и мой духовный брат ибн Гвироль писал о превосходстве иврита, лучшего из языков всех народов: «Гнев Божий обрушится на вас, потомки Иакова, если забудете вы избранный язык».
Отрывки из Библии украшают мои стихи; наиболее удачные из них посылаю на мусульманский юг – в Андалузию, там, в отличие от Кастилии, кипит еврейская поэтическая жизнь. Мечтаю отправиться в Гранаду к поэту и философу Моше ибн Эзре. Набрался смелости и написал ему рифмованной прозой письмо о том, что «не теряю надежды согреться в лучах его мудрости и славы». Ответа не получил. Время идёт в напрасном ожидании; но, может быть, известный авторитет в области стихосложения ещё откликнется на моё послание. Может, стоит ему напомнить о себе? Что бы я ни делал, меня не покидают мысли о том, что где-то есть другая радостная жизнь. Там красивые девушки, любовь, вдохновение, веселящее сердце вино. Там говорят стихами.
Исчерпав время ожидания, отправляюсь в Кордову, в столицу Кордовского халифата – центр просвещения, науки, поэзии, искусства, где была основана школа Просвещённых. К этой школе для избранных был причастен и Шломо ибн Гвироль; мусульмане называли его Сулейман ибн Яхья или Джабриэль. Исламские правители почитают образованных евреев, видят в нас учёных, переводчиков, поэтов. Поэзия у арабов, в отличие от христианской Испании, процветает. Надеюсь, я найду в Кордове работу; знаю латинский язык, арабский, испанский и, конечно, иврит. При сближении с просвещёнными мусульманами нам ничего не мешает держаться своей религии и языка. Главное, в Андалузии кипит поэтическая жизнь, и нет причин засиживаться в Кастилии. Ведь всё только начинается!
Кордова расположена на склоне отрога Сьерры-Морены, на правом берегу реки Гвадалквивир. То первый город, построенный римлянами в Испании во втором веке до нового летоисчисления. Невольно приходят мысли о том, что территория, на которой он строился, ещё недавно была владениями Карфагена. Оглядываю остатки римского амфитеатра и акведука, снабжавшего водой северную часть города. В Кордове родился римский философ-стоик Сенека, слова которого о возможности безграничного развития человеческого знания стали мне напутствием с юности.
Хожу по улицам города – бывшему центру римской провинции, а сейчас столице Кордовского халифата; любуюсь дворцами, мечетями, караван-сараями. Построенный римлянами тысячу лет назад каменный мост через реку Гвадалквивир до сих пор не обветшал. Миную просторные площади, монументальные здания. Оглядываюсь на затейливые фонтаны, что соседствуют с узкими тихими улицами, дома с ажурными балконами и внутренними двориками, украшенными цветами и пальмами в бочках. На стенах высоких новых строений арабские письмена, шестиконечные и восьмиконечные звёзды. Шестиконечная звезда была изображена на щитах воинов нашего царя Давида. А символом чего является у мусульман восьмиконечная звезда? На высоком холме дворец халифа, когда-то там была резиденция римских правителей, ещё сохранилась их мозаика, колонны. Когда власть сменилась, вестготские правители построили подковообразные арки, кладка которых в основном из тёсаных камней, на них хорошо сохранились орнаменты с изображением растений и животных.
Иду куда глаза глядят, оказываюсь перед огромной мечетью; останавливаюсь перед монументальным мавританским зодчеством. Если у мечетей и церквей свои архитектурные законы, то нет никаких правил при строительстве еврейского молитвенного дома; для обращения к Богу может сгодиться любая чистая комната. И даже под открытыми небесами Всевышний услышит тебя… Миную центральную улицу, дальше старые кварталы, на окраине города бедные хлипкие строения, которые вряд ли защищают от холода и жары.
Ничего мне не грозит в городе, куда съезжаются самые даровитые люди Испании. Надеюсь, что от бедности я застрахован знанием медицины, а от одиночества тем, что непременно встречу подобного себе восторженного поэта, и, конечно, не обойдёт меня и любовь. А пока хожу по ночному городу и вспоминаю стихи ибн Гвироля – своего воображаемого друга и единомышленника. Никто так проникновенно не писал о завораживающей луне, тихих шорохах, обострённых ночью запахах цветов.
Город с великолепными дворцами, мечетями, садами неотделим от истории. Представляю время, когда римляне во втором веке до нового летоисчисления одержали верх над местным населением – финикийцами. Здесь на плодородных землях люди селились ещё в древности. В начале восьмого века город был завоёван арабами. Сейчас находится под управлением просвещённых правителей, которые назначают образованных евреев на видные государственные должности, берут в советники, казначеи. При этом мы не забываем о недавнем погроме: при исламском правлении в Гранаде мусульмане убили около трёх тысяч евреев. Нельзя забывать о том, что мы живём в чужой стране и всякое возвышение может вызвать недовольство толпы. Тогда в Гранаде первыми министрами были назначены два иудея: поэт, раввин, глава еврейской общины – Шмуэль ха-Нагид и его сын Иосиф. Они брали единоверцев на главные государственные посты и даже не скрывали своих предпочтений. Погром был спровоцирован слухами о том, что евреи вынашивают планы превратить мусульманские города в иудейское королевство. Мы, бессильное меньшинство, должны сделать вывод: не злить толпу; чем более высокие должности станем занимать, тем больше зависти и ненависти вызовем у мусульманского и христианского простонародья. Ну да, бесчинства толпы, сопровождающиеся еврейскими погромами, существуют с давних времён. О страшной резне в Александрии в начале нового летоисчисления оставил свидетельство философ и историк Филон Александрийский, или иначе его называют Филон Иудей. Поначалу со стороны языческого населения мои единоверцы в Александрии не встречали препятствий; синагоги наравне с языческими храмами обладали правом убежища. Нужно ли искать причину ненависти – она всегда одна и та же: зависть, кровожадность и жажда власти. В четвёртом веке христиане разгромили и сожгли знаменитую Александрийскую библиотеку, в которой были древние свитки античного мира начиная c седьмого века до нового летоисчисления. Агрессия, жажда крови новообращённой толпы сопровождалась резнёй иудеев, что не соответствует миролюбию её учителя, говорившего: «Если тебя ударят по одной щеке – подставь другую». Первых христиан в Риме скармливали голодным львам в цирке, однако, когда носители креста обрели силу, они стали убивать инаковерующих. Вот и сейчас во время Крестовых походов воины Христа, проповедующего любовь, собрали в синагоге евреев Иерусалима и сожгли. Тут уж невольно сравниваешь веру в разум язычников и фанатичность, кровожадность христиан.
Поздно вечером, когда бродил по улицам Кордовы, наслаждаясь запахами апельсиновых и лимонных деревьев, услыхал из одного внутреннего дворика возгласы на иврите. Вошёл и тут же был приглашён к столу, уставленному кувшинами с вином. Поэты – братья по духу – призывали «залить огонь молодых сердец виноградной кровью бокалов», они с ходу стали обращаться ко мне в стихах, и я без труда рифмовал ответы. Все разом в мою честь подняли кубки и провозгласили напутствие мудреца Авиценны:
Прекрасно чистое вино, им дух возвышен и богат!Ханжа в вине находит ложь, а мудрый – истин щедрый клад.
Я тут же подхватил слова провидца:
Пустой бокал тяжёл, как ком из глины.Нальёшь вина – взлетит, как пух орлиный.Так и душа: низвергнув гнёт мирской,Взмывает ввысь, окрашена Шехиной[32].[33]
Все говорили стихами и ни слова прозой, должно быть, то обычная форма общения, выражения чувств, передачи сведений. Здесь, в Андалузии, как нигде в другом месте, расцвела еврейская поэтическая жизнь. Один из присутствующих прочитал стихотворение Моше ибн Эзры из «Книги ожерелья»:
Вино прохладой освежит, когда жарой объят весь свет,От зноя тенью защитит, уймёт лучей палящий свет.Когда мороз, как лютый враг, нежданно явится чуть свет,Согреет и спасёт от мук меня хранитель вин – бурдюк.[34]Под утро казалось, будто никогда не расставался с нечаянно встреченными единомышленниками. В следующий вечер меня приняли как старого знакомого, и я снова сидел в компании себе подобных, слагающих гимны вину, любви, дружбе, красоте природы. Должно быть, мои новые друзья не только говорят, но и думают стихами.
Из ночи в ночь мы всё так же сочиняем восторженные оды кувшину с вином, красоте женщин, хвалу друзьям и почитателям. Я чувствую себя на равных, более того, вдохновение среди коллег по перу рождает надежду на успех, и если не на славу, то на приговорённость к призванию. Вспомнилось четверостишье из стихотворения ибн Гвироля:
Вот перо и вот чернила –Вечной мудрости приют,Сколько душ погибло тут,Скольких слава возносилаЗа писанья тяжкий труд.[35]Я быстро усвоил проникшую из арабской поэзии манеру писать стихи о любовной страсти. Девушка – предмет вожделения – лань, газель, которую хочет заарканить влюблённый охотник. Она – преследуемая, и она же – хозяйка отношений, ибо в её власти освободить очарованного ею от снедающей страсти. Хоть глубокие душевные переживания любви при этом не предполагаются, однако одержимый влечением юноша, впрочем, может быть не только юноша, на грани безумия. Она – объект желания – и солнце, и луна, и свет, и тьма; она воскресает и убивает. «Слёзы влюблённого обильней дождей»; разлука с газелью грозит смертью. Одним словом – караул! С одной стороны, меня занимает общепризнанная тема любовного томления, вина и радостей жизни; с другой – образцом служат стихи ибн Гвироля о бренности бытия, скоротечности наших дней и необходимости найти высший смысл пребывания в этом мире.
Не стоило большого труда усвоить правила написания стихов восхвалений, в которых нужно перечислить достоинства человека, будь то знакомый или просто заказчик, который заплатит в зависимости от того, насколько наделю его воображаемыми добродетелями. То есть если он не умён, не щедр и не пользуется уважением, значит, нужно придумать что-нибудь замечательное о нём. Не зря же стихи восхваления пишутся на заказ и за них платят деньги. Завершают подобные вирши добрыми напутствиями и надеждой на благосклонность к пишущему их. Хвалебные и дружеские оды, даже если они не отражают достоинства адресата, побуждают того соответствовать написанному – быть лучше, добрее. Однако настоящее вдохновение приходит, когда пишешь не за деньги, а по побуждению души; тут уж и впрямь звучат искренние, неподдельные чувства. Не чужд мне и обличительный пафос в отношении самодовольных, ограниченных соплеменников.
Я быстро сориентировался в окружающих меня «братьях-поэтах»: для одних писание стихов – потребность души, самовыражение, для других – повод провести время, выпить, а стихи – всего лишь забава, погремушки. Вот уж который раз, когда мы расходимся по домам, за мной, уверяя в привязанности и дружбе, следует не самый молодой, увядший, словно выцветший, собутыльник. Пишет вирши такие же унылые, как сам, однако изображает из себя знатока и с умным видом делает замечания другим. Вот и сейчас не слышит, вернее, не хочет слышать меня; я говорю, что после ночи возлияний, когда уже светает, хорошо бы нам разойтись по домам и выспаться. В первый раз, оказавшись в незнакомой компании, я был тронут его вниманием. Однако этот стихоплёт с бесцветными глазами идёт следом и во второй, и в третий раз. Уверяет, что заглянет ко мне всего лишь на минутку. Однако, оказавшись в комнате, тут же устраивается на диване и просит выпить. В следующий раз, когда этот неприкаянный тип, как само собой разумеется, увязался за мной, я сказал:
– Извини, сегодня нельзя, ко мне приехали гости. Завтра пойдём к тебе.
– Ладно, приглашаю, – кисло улыбнулся собрат по перу.
Каково же было моё недоумение, когда он, клянясь в дружбе на всю жизнь, вместо вина, которым всякий раз обещал угостить меня, поставил на стол кувшин с водой. Вспомнилась строчка из стихотворения ибн Гвироля, оказавшегося в подобной ситуации – хозяин подал воду вместо вина: «Я скоро мокрою лягушкой стану и квакать как начну – не перестану». Впрочем, подобный приём не испортил мне настроение. Вот только подумал: «Не хвалил ли он мои стихи в надежде на щедрое угощение?» Переоценил он содержимое моего кошелька, у меня самого часто нет денег купить вино даже на Шаббат. Человек, у которого я оказался в гостях, напомнил дворовую собачку, которою я угощал по дороге в хедер. Глядя на меня преданными газами и виляя хвостом, она незаметно как бы само собой слизывала не только то, что я приносил ей, но и мой завтрак.
Независимо от наличия денег, живу в предвкушении славы, удачи. У меня растут крылья за спиной – я жду, ищу любви! Чуть ли не каждая проходящая мимо девушка видится мне жрицей любви. При этом помню, что «Святой, благословен Он, каждый день благословляет холостяка, живущего в большом городе и удерживающегося от греха».[36] В большом городе, где тебя никто не знает, труднее устоять от соблазна ни к чему не обязывающих отношений. Вот и ибн Гвироль, согласно воспоминаниям современников, не ходил в «дома радости», где тихая музыка, аромат духов и юные рабыни с шелковистой кожей расслабляют плоть.
Как-то поздно вечером сидел с одним из «братьев-поэтов» за бутылкой вина, он силился сочинить ответное письмо Моше ибн Эзре, заверить в стихах знаменитого мэтра в дружбе и благодарности. Следовало использовать привычные темы: гимны радости, любви – и повторить особенности написания послания ибн Эзры, главного авторитета стихосложения. Мне удалось разгадать приёмы «верховного полководца», как его называли поэты, и написать достойный ответ в том же стиле песен дружбы и восхваления адресата. Воспроизводя тональность маститого стихотворца, я, в отличие от него, писал о том, что вино – источник наслаждения, а не только старческой меланхолии. Я радовался посетившему меня вдохновению, то была нечасто появляющаяся уверенность в своих возможностях. Чтобы научиться писать стихи, нужно потратить много времени, а можно довериться интуиции. Моше ибн Эзра, наверное, поймёт, кто писал ответ, тем более что в конце письма я повторил его слова: «Ради Бога, о посланник, выбери дорогу, которая приведёт ко мне».
Моё письмо нашло милость в глазах адресата, он ответил, что единственной его радостью в последнее время стали стихи молодого человека, которые он только что получил. Просил передать автору – мне, значит – приглашение в свои владения отдохнуть и насладиться всеми радостями жизни в его «просторном доме для гостей, неважно, кто ещё будет в это время стучаться в ворота». Счастье улыбнулось мне! Я получил возможность посетить поэта, в стихах которого, кроме традиционных восхвалений дружбы, вина и любви, есть и покаянные песни, молитвы, тоска по Земле Израиля.
Спешу в Гранаду к Моше ибн Эзре – непревзойдённому мастеру стихосложения! Надеюсь обрести благосклонность не только умением писать стихи, но и любовью к ибн Гвиролю, философские взгляды которого о наличии запредельного Первоначала призывом к восхождению души к своему истоку близки ему. Помимо видного места в еврейской общине Гранады, Моше ибн Эзра сведущ в греческой и арабской философии и как никто другой знает теорию литературы. Недавно написал «Книгу бесед и упоминаний» – систематическое изложение еврейской поэтики и риторики. Однако для меня главное – его стихи. Представляю родословную своего воображаемого покровителя; должно быть, предки из знаменитого рода ибн Эзра – потомков первосвященника Аарона. Это высшие слои иерусалимского общества. В пятом веке до нового летоисчисления один из Эзра, родившийся в вавилонском плену, сумел внушить персидскому правителю Артаксерксу благоговение перед Законом Бога, и тот издал указ о том, что пленные евреи вольны вернуться в Иерусалим и отстроить свой Храм. Имя Эзра – по сей день знак учёности, таланта, величия. Впрочем, это имя довольно распространённое. Возможно, кровных связей между потомками первосвященника Аарона и моим современником, непревзойдённым поэтом, грамматиком и философом, нет. Однако неоспоримо то, что Моше, с которым мне предстоит встреча, из колена Иегуды или Биньямина; из тех, что были изгнаны в Испанию из Иерусалима после поражения в войне с Навуходоносором в шестом веке до нового летоисчисления. Впрочем, родословная не имеет большого значения. Главное, тот, кто пригласил меня, – талантлив, умён, образован и искренне радуется моим стихам.
Ещё немного времени, и окажусь у ворот знаменитого поэта и учёного в Гранаде – в городе, славящемся своими богатыми библиотеками и дворцами. В дилижансе рядом со мной сидит давно не молодая женщина; лицо у неё усталое, отрешённое. Как можно печалиться в такой чудесный день?! Высокое небо, всё вокруг в ярком полуденном свете: поспевающие хлеба, виноградники, попадающиеся навстречу отары овец – всё поёт о радости жизни! Хочу поделиться с попутчицей восторгом ожидания встречи с человеком, который станет мне другом. Судя по покрою тёмных одежд и бесстрастному взгляду, я решил, что она христианка, может быть, даже живёт в монастыре, где её отвратили от соблазнов этого мира. Впрочем, неважно – все люди поймут слова о красоте природы и ожидании любви в стихах моего будущего покровителя. На вопрос, не возражает ли госпожа послушать великого поэта, та посмотрела на меня с недоумением, затем молча кивнула. И я тороплюсь озвучить строчки, которые запали мне в душу:
Луна мне серебряный блик подарила,Любви пелену опустила на веки.О чёрные косы – беззвёздные ночи,Душа моя – пленница ваша навеки!Упругие груди красотки задорной,Вы – стрелы, что ранят меня обе разом.Как сладки мгновенья полночных свиданий!Всё горше дни наших разлук с каждым разом…[37]Женщина тяжело вздохнула; может, оттого, что уже не ждёт ничьих признаний в любви, а может, ей горько вспоминать о несбывшихся надеждах. Затем я читаю стихи ибн Эзры о вине, которое веселит всех. Моя попутчица слушает, и я с воодушевлением продолжаю читать всё, что помню из написанного непревзойдённым авторитетом нашего времени:
Она в тёмной ночи вам служить рождена.Точно пальма, что тянется к небу, стройна.Как копьё золотое, пряма и остра,Она солнцу и звёздам лучистым сестра.На щеке её искра – слезинка дрожит.Пламя точит ей тело и смертью грозит.Но продлить краткий век её можете выОтсеченьем горячей её головы.Нет другого, подобного ей существа.Так к кому же относятся эти слова?[38]
– Ну да… – промолвила сидящая напротив монашка, и горькая улыбка тронула её сжатый рот. Затем после долгого молчания промолвила: – Стихотворение, должно быть, написано о без памяти влюблённой девушке или о свече, они обе служат своему господину и ценой жизни освещают ему ночь.
Моя попутчица снова замолчала, затем, словно обращаясь к самой себе, спросила:
– А как быть человеку, если даже в воспоминаниях трудно отыскать что-нибудь светлое, греющее душу?
Я, подстраиваясь под её настроение, стал читать другое стихотворение моего воображаемого наставника и покровителя. Должно быть, он написал его не в лучшую минуту своей жизни:
Проходят дни, и месяцы, и годы,Моим желаньям сбыться не дано.И я среди осенней непогодыЗабыт уже, наверное, давно,Забыт, как мёртвый, как сосуд негодный,Как камень, опустившийся на дно.[39]
Женщина молчит, и я читаю следующий стих: