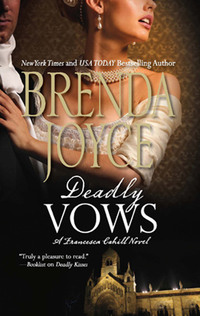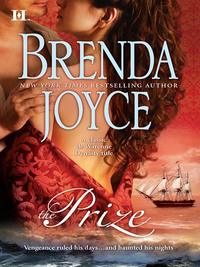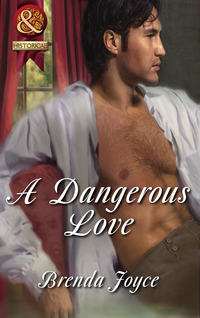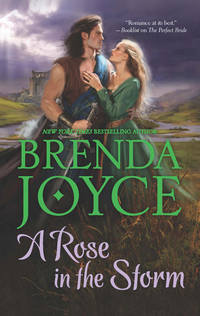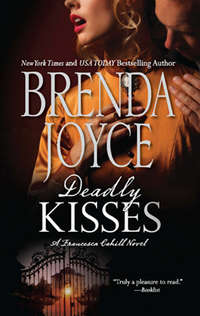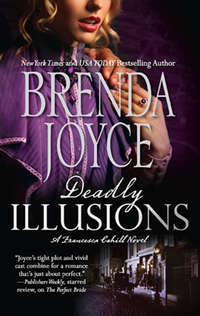Полная версия
Преследование

Бренда Джойс
Преследование
Persuasion
Copyright © 2012 by Brenda Joyce Dreams Unlimited, Inc.
«Преследование»
© Перевод и издание на русском языке, ЗАО «Издательство Центрполиграф», 2014
Пролог
Тюрьма «Люксембург», Париж, Франция
Март 1794 года
Вот они и пришли за ним.
Его сердце екнуло от страха. Он не мог дышать. Медленно, едва двигаясь от сковавшего все тело напряжения, он обернулся и принялся всматриваться в темный коридор. До него донесся звук приближавшихся шагов – тихих, но твердых.
Он знал, что должен сосредоточить все свои умственные усилия. Подойдя к передней стене камеры, он вцепился в ледяные железные прутья тюремной решетки. Поступь становилась все громче.
Внутри у него все сжалось. Страх переполнил душу. Сможет ли он дожить до завтра?
В камере нестерпимо воняло. Обитавшие здесь перед ним заключенные мочились, испражнялись и извергали рвотные массы прямо в этих унылых стенах. Следы высохшей крови виднелись на полу и соломенном тюфяке, ложиться на который арестант отказался. Прежних «гостей» этой камеры били, пытали. Разумеется, их беспощадно мучили – ведь они считались врагами отечества.
Даже воздух, проникавший в камеру через единственное решетчатое окно, был зловонным. Площадь Революции раскинулась внизу, отделенная от тюремной стены всего несколькими метрами. Сотни – нет, тысячи – отправлялись на смерть туда, к гильотине. Кровь преступников – и ни в чем не повинных – пропитывала сам воздух, придавая ему отвратительный привкус.
Теперь он мог слышать голоса приближавшихся к камере.
Он втянул воздух ртом, почувствовав, как от страха к горлу подступила тошнота.
Девяносто шесть дней прошло с тех пор, как он попал в засаду у административного здания, в котором служил чиновником коммуны. На него напали, заковали в наручники, надели на голову мешок.
– Предатель! – злобно фыркнул знакомый голос, когда его швырнули на сиденье какой-то повозки. Спустя час мешок с его головы сорвали, и он обнаружил себя стоящим в центре вот этой самой камеры. По словам надзирателя, он обвинялся в преступлениях против Республики. И все без исключения знали, что это означало…
Ему так и не довелось увидеть человека, бросившего в его адрес нелестное определение «предатель», и все же он нисколько не сомневался, что это был Жан Ляфлер, один из самых радикальных чиновников городского правительства.
Яркие картины замелькали в его сознании. Он отчетливо видел двоих своих сыновей, этих маленьких, симпатичных, простодушных мальчиков. Он вел себя чрезвычайно осторожно – но, видимо, все-таки недостаточно осторожно, – когда не так давно покидал Францию, чтобы навестить их. Они находились в Лондоне. Это был день рождения Уильяма. Он так сильно скучал по нему – и по Джону тоже! Увы, ему не удалось остаться в Лондоне надолго; он не рискнул задерживаться там, опасаясь, что его разоблачат. Ни одна живая душа, кроме семьи, не знала, что он находился в городе. Он наслаждался компанией близких, но предстоящий скорый отъезд придал радости от воссоединения с семьей горький привкус.
С момента возвращения к французским берегам он чувствовал слежку. Ему не удалось поймать того, кто шел за ним по пятам, но сомнений не оставалось: за ним неотступно наблюдали. Подобно большинству французов и француженок, он жил в постоянном страхе. Шарахался буквально от каждой тени. То и дело просыпался по ночам, думая, что слышит этот ужасающий стук в свою дверь. Когда подобный стук раздавался в полночь, это означало, что за вами пришли…
Точно так же, как теперь они пришли за ним. Шаги становились все громче.
Он снова глотнул воздух, силясь унять охватившую его панику. Если они почувствуют его страх, все будет кончено. Его страх будет равнозначен признанию – для них. Такие порядки царили сейчас по всей стране: не только в Париже, но и в сельской местности.
Он крепко сжал прутья решетки. Его время в этой камере только что истекло. Или он попал в проскрипционный список неблагонадежных и теперь должен ждать судебного заседания, а потом и казни за свои преступления, или он выйдет из тюрьмы свободным человеком…
Собраться с духом в такой момент оказалось самым тяжелым в его жизни.
Впереди показался свет факела. Огонь приблизился, освещая сырые каменные стены тюрьмы. И наконец, заключенный увидел очертания фигур. Люди шли молча.
Сердце отчаянно заколотилось. Он словно врос в пол, не в силах даже пошевелиться.
В поле зрения показались тюремные надзиратели, они зловеще ухмылялись, глядя на арестанта так, словно его судьба уже была решена – окончательно и бесповоротно. Он узнал якобинца, шествовавшего за тюремщиками. Как он и подозревал, это был оголтело-радикальный, чрезвычайно жестокий эбертист Жан Ляфлер.
– Добрый день, Журдан. Как вы поживаете нынче? – усмехнулся он, подойдя к решетке камеры и явно упиваясь этим мгновением.
– Хорошо, – спокойно ответил заключенный, всем своим видом давая понять, что все действительно в полном порядке. Когда он не стал молить о пощаде или кричать о своей невиновности, улыбка сбежала с лица Ляфлера, а взгляд якобинца стал резким.
– И это все, что вы хотите сказать? Вы – предатель, Журдан. Признайтесь в своих преступлениях, и мы позаботимся о том, чтобы ускорить судебное разбирательство по вашему делу. Я даже устрою так, чтобы ваша голова отлетела в первую очередь, – снова усмехнулся он.
Если до этого дойдет, подумал заключенный, ему останется только надеяться, что его действительно подведут к гильотине первым – никто не хотел стоять там часами, закованный в кандалы, наблюдая за ужасающими казнями в ожидании своей участи.
– Тогда моя гибель будет на вашей совести. – Заключенный едва мог поверить тому, как спокойно прозвучал его голос.
Ляфлер изумленно воззрился на него:
– Почему вы не отстаиваете свою невиновность?
– Это поможет при рассмотрении моего дела?
– Нет.
– Я так и думал.
– Вы – третий сын виконта Журдана, и ваше покаяние было лживым. Вы не любите Родину – вы шпионите в пользу ее врагов! Все члены вашей семьи мертвы, и скоро вы присоединитесь к ним пред вратами чистилища.
– А в Лондоне между тем мог бы появиться новый шпион.
Глаза Ляфлера удивленно округлились.
– Что это вы темните?
– Вы наверняка знаете, что моя семья занималась торговлей в Лионе на протяжении многих лет, и у нас обширные связи с британцами.
Радикальный якобинец пристально взглянул на него:
– Вы исчезали из Парижа на месяц. Вы ездили в Лондон?
– Да.
– Выходит, вы признаете обвинение?
– Я признаю наличие коммерческих проектов в Лондоне, которыми я должен был заниматься, Ляфлер, посмотрите вокруг. Париж умирает с голода. Ассигнаты ничего не стоят. И все же на моем столе хлеб был всегда.
– Занятие контрабандой – преступление, – отрезал Ляфлер, но его глаза заинтересованно сверкнули. Линия его рта наконец-то смягчилась, и якобинец пожал плечами. Черный рынок в Париже был необъятным и считался неприкосновенным. Его не собирались уничтожать – ни сейчас, ни когда бы то ни было. – Что вы можете мне предложить? – тихо осведомился Ляфлер. Теперь пристальный взгляд его черных глаз был направлен на арестанта.
– Разве вы не расслышали мои слова?
– Мы говорим о хлебе и золоте – или о новом шпионе?
Заключенный еле слышно произнес:
– С той страной меня связывает больше чем просто деловые отношения. Граф Сент-Джастский – мой кузен, и, если бы вы должным образом изучили мою родословную, вам это было бы известно.
Арестант почувствовал, как лихорадочно заметались мысли в голове Ляфлера, и продолжил:
– Сент-Джаст вращается в высших кругах Лондона. Полагаю, он будет счастлив узнать, что одному из его родственников удалось пережить разорение Лиона. Мне даже кажется, что он принял бы меня в своем доме с распростертыми объятиями.
Ляфлер по-прежнему пристально смотрел на него.
– Это – хитрая уловка, – наконец произнес якобинец. – Потом вы никогда не вернетесь во Францию!
Арестант расплылся в улыбке.
– Да, это вполне возможно, – заметил он. – Конечно, я могу и не вернуться. Или могу примкнуть к движению «бешеных», стать верным делу Свободы, подобно вам, и вернуться с такой информацией, которую по силам заполучить далеко не всякому шпиону Карно, – бесценной информацией, которая поможет нам выиграть войну.
Твердый взгляд Ляфлера и на сей раз не дрогнул.
Арестант не стал утруждаться, лишний раз подчеркивая, что преимущества, которые сулит его предложение, – проникнуть в высшие эшелоны лондонских тори и вернуться в Республику с конфиденциальной информацией – значительно перевешивали риск того, что он навсегда исчезнет из Франции.
– Я не могу принимать подобные решения в одиночку, – задумчиво помолчав, изрек Ляфлер. – Вы предстанете перед комитетом и, если сможете убедить его членов в собственной ценности, останетесь в живых.
Арестант даже не шелохнулся.
Ляфлер ушел.
А Саймон Гренвилл в изнеможении рухнул на лежащий на полу соломенный тюфяк.
Глава 1
Поместье Грейстоун, Корнуолл
4 апреля 1794 года
– Жена Гренвилла умерла.
Амелия Грейстоун застыла со стопкой тарелок в руках, уставившись на брата невидящим взором.
– Ты слышала, что я сказал? – спросил Лукас, и его серые глаза наполнились тревогой. – Леди Гренвилл умерла прошлой ночью, пытаясь произвести на свет дочь.
«Его жена умерла…»
Ужас буквально парализовал Амелию. Новости о войне или разгуле насилия во Франции приходили каждый день – сообщения были ужасными, ввергающими в шок. Но такого Амелия не ожидала.
Как леди Гренвилл могла умереть? Она была такой утонченной, такой красивой – и слишком молодой, чтобы умереть!
Амелия едва могла собраться с мыслями. Леди Гренвилл не приезжала в Сент-Джаст-Холл с момента свадьбы, случившейся десять лет назад, – точно так же, как не бывал в имении и ее супруг. И вдруг в январе она появилась в родовом поместье графа со всем своим домашним хозяйством и двумя сыновьями – и явно ожидая еще одного ребенка. Сент-Джаста с ней не было.
Корнуолл и так слыл забытой богом глушью, в январе же в этой местности становилось и вовсе нестерпимо. В середине зимы, когда дули сильные ветры и на побережье обрушивались яростные штормы, здесь царили лютый холод и суровое уныние.
Ну какая женщина решилась бы приехать в самый отдаленный уголок страны зимой, чтобы произвести тут на свет свое дитя? Появление леди Гренвилл казалось очень странным.
Амелия удивилась ничуть не меньше остальных жителей прихода, когда услышала, что графиня появилась в имении, а позже, получив от нее приглашение на чай, даже и не подумала от него отказаться. Ей не терпелось познакомиться с Элизабет Гренвилл, и не только потому, что они были соседками. Амелия сгорала от любопытства, какой же была графиня Сент-Джастская.
И она оказалась точно такой, как и ожидала Амелия, – белокурой и красивой, приятной в общении, элегантной и в высшей степени благородной. Она представлялась идеальной спутницей для темноволосого задумчивого графа. Элизабет Гренвилл обладала всем, чего была лишена Амелия Грейстоун.
Поскольку Амелия похоронила прошлое давным-давно – в сущности, лет десять назад, – она даже не ожидала, что станет сравнивать себя с графиней. Но при встрече, едва держась на ногах от потрясения, Амелия вдруг осознала, как сильно хотела рассмотреть и расспросить женщину, на которой в свое время женился Гренвилл, – женщину, которую он предпочел ей.
Амелия задрожала, крепко прижимая тарелки к груди. Если бы она не была такой осторожной, наверняка принялась бы грезить о прошлом! Но теперь она запрещала себе думать, будто на самом деле так желала встречи с леди Гренвилл именно потому, что хотела составить мнение о ней, оценить ее как потенциальную соперницу. Осознание этого привело Амелию в ужас.
Элизабет Гренвилл ей понравилась. Да и роман с Гренвиллом закончился десять лет назад.
Амелия выбросила все эти мысли из головы тогда. И действительно не хотела возвращаться к былому теперь.
Но внезапно она почувствовала себя шестнадцатилетней девчонкой, юной и красивой, наивной и доверчивой, а еще такой ранимой… Она будто снова очутилась в кольце сильных рук Саймона Гренвилла, ожидая от него объяснения в любви и предложения руки и сердца.
Эти неуместные мысли поразили Амелию, она хотела отмахнуться от них, но было уже слишком поздно. Шлюзовые ворота, сдерживавшие поток памяти, открылись. Пылкие, безрассудные картины замелькали перед мысленным взором: они вдвоем на брошенном на землю одеяле для пикника, они в живом лабиринте позади дома, они в его карете… Саймон неистово целует ее, Амелия отвечает на его поцелуи, и они вдвоем бьются в агонии очень опасной, безрассудной страсти…
Амелия глубоко вдохнула, потрясенная этой внезапной яркой вспышкой памяти о том давно минувшем лете. Он никогда не был искренним. Он никогда не ухаживал за ней с серьезными намерениями. Теперь Амелия была достаточно здравомыслящей женщиной, чтобы понимать это. И все же в ту пору она ждала от него предложения – и предательство буквально сокрушило ее.
Почему ужасная смерть леди Гренвилл заставила Амелию вспомнить тот период своей жизни, когда она была такой молодой и такой глупой? Многие годы она не позволяла себе ни единой мысли о том лете, не думала о тех мгновениях, даже когда сидела в гостиной леди Гренвилл, потягивая чай и обсуждая войну.
Но теперь Гренвилл был вдовцом…
Лукас забрал у Амелии стопку тарелок, резко вернув обратно в реальность. Амелия молча уставилась на брата, приходя в ужас от своей последней мысли и со страхом гадая, что же это могло значить.
– Амелия? – встревоженно окликнул Лукас.
Нет, она не должна думать о прошлом. Амелия не знала, почему вдруг воскресли те нелепые воспоминания, но теперь она была серьезной женщиной двадцати шести лет. То романтическое увлечение забылось. Она не хотела вспоминать тот флирт – или что-то еще в этом роде – никогда. Именно поэтому Амелия упорно гнала от себя мысли о романе все эти годы – с тех пор, как Гренвилл уехал из Корнуолла, не сказав ни слова, вскоре после трагического несчастного случая, унесшего жизнь его брата.
Все это нужно было забыть.
И это забылось! После тяжких душевных мук, разумеется, после долгой печали, но Амелия нашла в себе силы продолжать жить. Она сосредоточила все свое внимание на маме, рассудок которой давно помутился, на братьях, сестре и имении. Так Амелии действительно удалось забыть о Гренвилле и их романтических отношениях на целых десять лет. Она была занятой женщиной в стесненном материальном положении и с обременительными обязанностями. Жизнь Саймона тоже не стояла на месте. Он женился и обзавелся детьми.
И никаких сожалений у Амелии не было. Она была нужна своей семье. Таков был ее долг – заботиться обо всех близких – еще с детских лет, когда отец их бросил. Но потом во Франции вспыхнула революция, началась война, и все изменилось.
– Ты чуть не выронила тарелки! – воскликнул Лукас. – Тебе плохо? Ты жутко побледнела!
Амелия вздрогнула. Ей действительно стало дурно. Но она не собиралась позволять прошлому, давно умершему и погребенному, волновать ее снова.
– Это ужасная трагедия!
Лукас, золотистые волосы которого были небрежно стянуты назад в косу, пристально смотрел на нее. Он только что приехал из Лондона – или, по крайней мере, утверждал, что прямиком оттуда. Брат был высоким и выглядел настоящим франтом в изумрудного цвета бархатном сюртуке, желтовато-коричневых бриджах и чулках.
– Ну-ка, Амелия, признавайся, почему ты так огорчена?
Ей удалось выдавить из себя улыбку. Почему она огорчилась? Точно не из-за Гренвилла. Красивая женщина, молодая мать умерла, оставив троих маленьких детей.
– Она умерла, рожая третьего ребенка, Лукас. И еще остались два маленьких мальчика. Я познакомилась с ней в феврале. Она оказалась именно такой красивой, любезной и элегантной, как твердили все вокруг, – объяснила Амелия. Помнится, с того самого момента, как Элизабет вошла в гостиную, Амелии стало совершенно ясно, почему Гренвилл выбрал ее. Он был темным и мощным, она – светлой и очень милой. Они составляли идеальную аристократическую пару. – Ее сердечность и гостеприимство произвели на меня приятное впечатление. А еще она была умна. Мы хорошо побеседовали. Как жаль, что ее больше нет!
– Действительно, жаль. А еще мне очень жаль этих детей и Сент-Джаста.
Амелия ощутила, как самообладание вернулось к ней. И несмотря на то что мрачный образ Гренвилла, казалось, неотступно преследовал ее теперь, здравый смысл тоже возвратился. Леди Гренвилл умерла, оставив троих маленьких детей. Сейчас соседям требовались соболезнования Амелии – и, возможно, ее помощь.
– Бедные мальчики, бедное дитя! Мне так их жалко!
– Это будет сложный период, – согласился Лукас и бросил на сестру странный взгляд. – К смерти молодых привыкнуть невозможно.
Амелия понимала, что брат сейчас думает о войне; она знала о его деятельности в военное время абсолютно все. Но сейчас она по-прежнему думала об этих несчастных детях – и это было полезнее, безопаснее, чем размышлять о Гренвилле. Забрав у Лукаса тарелки, Амелия принялась уныло накрывать на стол. Она так печалилась из-за детей… Гренвилл наверняка был убит горем, но Амелия не хотела думать о нем или его чувствах даже притом, что он был ее соседом.
Она поставила последнюю тарелку на старый обеденный стол – и вперила невидящий взор в обшарпанную, но отполированную до зеркального блеска деревянную поверхность. Как много времени прошло… Когда-то она была влюблена, но теперь, разумеется, не любила Гренвилла. Определенно ей следовало сделать то, что и полагалось в подобной ситуации.
В сущности, Амелия не видела Саймона Гренвилла целых десять лет. Сейчас она, вероятно, даже не узнала бы его. Граф мог растолстеть. И даже поседеть. Он наверняка уже не был тем лихим молодым повесой, способным заставить ее сердце колотиться, бросив один-единственный многозначительный взгляд.
Да и сам Гренвилл вряд ли узнал бы ее. Амелия по-прежнему была стройной – если честно, даже худой – и миниатюрной, но ее внешность померкла, увяла, как это обычно происходит с любой наружностью. И хотя джентльмены постарше по-прежнему время от времени бросали в ее сторону заинтересованные взгляды, Амелия едва ли была такой же красивой, как когда-то.
Она испытала что-то вроде небольшого облегчения. То необычайное притяжение, существовавшее между ними прежде, точно не возникнет снова. И Амелия больше не будет испытывать неловкость в его присутствии, как это было раньше. В конце концов, она тоже стала старше и мудрее. Жизнь закалила ее, превратив в сильную и решительную женщину.
Так что, когда ей доведется увидеть Гренвилла, думала Амелия, она выразит свои соболезнования точно так же, как поступила бы с любым другим соседом, переживающим подобную трагедию.
Амелии сразу стало лучше. Да, на душе явно полегчало. Те глупые воспоминания именно этим и были – глупостью.
– Уверен, семья никак не может оправиться от потери, – тихо заметил Лукас. – Конечно, она была слишком молода, чтобы умереть. Сент-Джаст, должно быть, вне себя от потрясения.
Амелия осторожно подняла взгляд. Лукас был прав. Гренвилл наверняка сильно любил свою красавицу жену. Амелия прокашлялась.
– Ты застал меня врасплох, Лукас, как всегда! Я совсем тебя не ждала, и вдруг ты появляешься дома, да еще и с такими ошеломляющими новостями.
Брат обнял ее за плечи.
– Прости. Я услышал о смерти леди Гренвилл, когда остановился в Пензансе, чтобы сменить лошадей.
– Я всерьез беспокоюсь о детях. Мы должны помочь этой семье всем, чем только можем. – Амелия говорила совершенно искренне. Она никогда не повернулась бы спиной к людям, оказавшимся в беде.
Лукас улыбнулся:
– Ну вот, теперь со мной говорит сестра, которую я знаю и люблю. Конечно же ты беспокоишься. Убежден, что Гренвилл даст соответствующие указания по поводу каждого своего ребенка, как только обретет способность мыслить ясно.
Амелия задумчиво посмотрела на брата. Гренвилл, несомненно, пребывал в состоянии шока. Теперь она нарочно гнала от себя его привлекательный образ, напоминая себе о том, что граф, вероятно, стал толстым и седым.
– Да, разумеется, он разберется.
Амелия окинула взглядом накрытый стол. С сервировкой приходилось исхитряться – учитывая то, в каких стесненных обстоятельствах существовала их семья. Сад пока еще не зацвел, поэтому на середине стола красовался лишь высокий серебряный канделябр, оставшийся с лучших времен. Единственным предметом обстановки в комнате, кроме стола, был старинный буфет, в котором поблескивал их лучший фарфор. Зал был меблирован так же скудно.
– Обед будет готов через несколько минут, – сказала Амалия. – Ты можешь сходить наверх и привести маму?
– Конечно. И тебе не стоит так хлопотать.
– Я всегда так радуюсь, когда ты дома! И конечно же сейчас мы будем обедать как самая обычная семья.
Брат криво улыбнулся:
– Обычных семей сейчас почти не осталось, Амелия.
Слабая улыбка сбежала с ее лица. Лукас только что, чуть ли не мгновение назад, переступил порог родного дома, Амелия не видела его месяц или больше. Под глазами брата залегли тени, на его скуле виднелся маленький шрам, которого раньше не было. Она боялась спросить, как у Лукаса появился этот шрам, а еще больше – где он его «заработал». Брат по-прежнему был опасно-красивым мужчиной, но революция во Франции и война полностью изменили их жизнь.
До падения французской монархии все было так просто… Лукас проводил время, управляя поместьем, и главной его заботой было повышение эффективности работы принадлежавших семье рудника и карьера. Джек, который был младше Амелии на год, подобно многим другим корнуолльцам, занимался контрабандой. А младшая сестра Амелии, Джулианна, каждую свободную минуту тратила на сидение в библиотеке, читая все, что попадалось под руку, и подпитывая свои якобинские симпатии. Особняк Грейстоун был оживленным, счастливым домом. Амелия заботилась обо всей семье, включая мать.
Отец, Джон Грейстоун, оставил семью, когда Амелии было всего семь лет, и вскоре после этого мамин рассудок помутился, она стала терять ощущение реальности. Амелия вынуждена была подменить хозяйку дома, помогая по хозяйству, составляя списки покупок, планируя меню и даже отдавая приказы их немногочисленным слугам. А главным образом она заботилась о Джулианне, которая в ту пору была совсем маленькой, только-только начинала ходить. Их дядя, Себастьян Уорлок, прислал управляющего, чтобы помогать с имением, но Лукас приступил к исполнению этих обязанностей еще до того, как ему исполнилось пятнадцать. Их дом был необычным, но оживленным и посемейному теплым, наполненным любовью и смехом, невзирая на финансовые трудности.
Теперь дом почти опустел. Джулианна влюбилась в графа Бедфордского, когда его, находящегося на волосок от смерти, доставили в имение их братья. Разумеется, Джулианна и не догадывалась, кем гость дома был на самом деле, – в ту пору он прикидывался офицером французской армии. Их отношениям мешало серьезное препятствие: он был шпионом, работавшим на Питта, она – сторонницей якобинцев. Но недавно Джулианна вышла замуж за Бедфорда и только что родила дочь в Лондоне, где они и жили. Амелия покачала головой, вспомнив об этом. Подумать только: ее сестра-радикалка теперь была графиней Бедфордской – и без памяти любила своего мужа-тори!
Жизнь ее братьев тоже изменилась из-за войны. Лукас теперь редко бывал в поместье Грейстоун. Но поскольку его с Амелией разделяли лишь два года, а также потому, что они заняли в доме места своих родителей, старшие брат с сестрой были особенно близки. Амелия стала доверенным лицом брата, хотя он и не рассказывал ей о своих делах в мельчайших подробностях. Он просто не мог сидеть сложа руки в то время, как Францию сотрясала революция. Некоторое время назад Лукас тайно предложил свои услуги военному министерству. Еще до того, как во Франции настала эпоха террора, Великобританию наводнил поток эмигрантов, спасавшихся бегством. Последние два года Лукас провел, вывозя эмигрантов с берегов Франции.
Эта деятельность была крайне опасной. Если бы французские власти поймали Лукаса, его немедленно бы арестовали и отправили на гильотину. Амелия гордилась братом, но одновременно и очень боялась за него.
Разумеется, она все время волновалась о Лукасе. Он был якорем семьи – ее главой. Но о Джеке Амелия беспокоилась еще больше. Джек был бесстрашным. И безрассудным. Он действовал так, словно считал себя бессмертным. До войны Джек был простым корнуолльским контрабандистом – одним из тех, кто зарабатывал на жизнь подобным образом, – и следовал по стопам несметного числа своих предков. Теперь он зарабатывал тем, что провозил контрабандой различные товары между воюющими странами. Занятие поопаснее этого еще нужно было поискать! Если бы брата схватили до войны, его ждало бы тюремное заключение. Теперь, однако, стоило британским властям уличить Джека в нарушении блокады Франции, его бы обвинили в – ни много ни мало – государственной измене. За столь тяжкое преступление отправляли на виселицу.