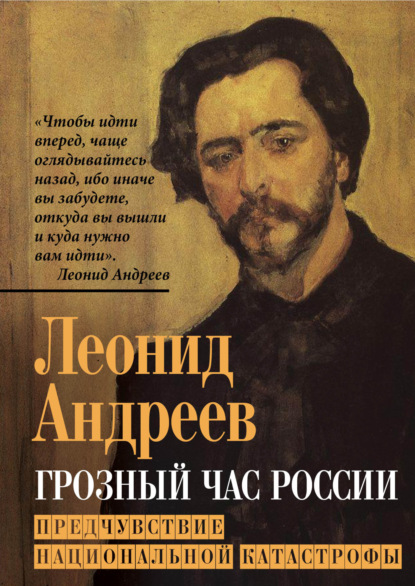Полная версия
Русский октябрь. Что такое национал-большевизм
«История – не тротуар Невского проспекта» – любил говорить Н.Г. Чернышевский.
Из всего этого отнюдь не вытекает, конечно, что следует поощрять, а не сдерживать конкретные проявления стихийной разрушительной силы, характерной для «критических» эпох. Но из этого вытекает, что подобные проявления не дают еще ни малейшего права считать такие эпохи бесплодными, злыми или постыдными.
Когда в дни последней войны немцев упрекали за лувенскую библиотеку и реймский собор, они отвечали устами своих идеологов: – «Если гений Германии восторжествует в мире, он его отблагодарит новыми ценностями, перед которым померкнут пострадавшие Реймс и Лувень». – Ответ, достойный народа Гете и Вагнера, Гегеля и Бисмарка…
…Я уже готов предчувствовать негодующий гомон: «Что это? Воспевание культурного варварства? Вандализм?»…
Пусть себе волнуются на здоровье. Никогда меня не трогали ни на волос все эти филистерские жупелы и убогие каноны в шоры облеченных интеллигентов, подобно «швабским поэтам», умеющих гордиться лишь своим «целомудрием»…16
И думается мне, что подобно тому, как современный француз на вопрос «чем велика Франция» вам непременно ответит «Декартом и Руссо, Вольтером и Гюго, Бодлером и Бергсоном, Людовиком XIV, Наполеоном – и великой революцией», – так и наши внуки на вопрос «чем велика Россия» с гордостью скажут: – «Пушкиным и Толстым, Достоевским и Гоголем, русской музыкой, русской религиозной мыслью, Петром Великим и великой русской революцией»!
2Какое глубочайшее недоразумение – считать русскую революцию не национальной! Это могут утверждать лишь те, кто закрывает глаза на всю русскую историю и, в частности, на историю нашей общественной и политической мысли.
Разве не началась она, революция наша, и не развивалась через типичнейший русский бунт, «бессмысленный и беспощадный» с первого взгляда, но всегда таящий в себе какие-то нравственные глубины, какую-то своеобразную «правду»? Затем, разве в ней нет причудливо преломленного и осложненного духа славянофильства? Разве в ней мало от Белинского? От чаадаевского пессимизма? От печеринской (чисто русской) «патриофобии»17? От герценовского революционного романтизма («мы опередили Европу, потому что отстали от нее»)? А писаревский утилитаризм? А Чернышевский? А якобизм ткачевского «Набата»18 (апология «инициативного меньшинства»)? Наконец, разве на каждом шагу в ней не чувствуется Достоевский, достоевщина – от Петруши Верховенского до Алеши Карамазова? Или, быть может, оба они – не русские? А марксизм 90-х годов, руководимый теми, кого мы считаем теперь носителями подлинной русской идеи, – Булгаковым, Бердяевым, Струве? А Горький? А «соловьевцы» Андрей Белый и Александр Блок?..
Я мог бы органическую связь каждого из крупных русских интеллигентских течений прошлого и нынешнего века с духом великой русской революции подтвердить документально и надеюсь когда-нибудь это сделать. Факт этой связи не подлежит никакому сомнению, как бы его ни оценивать, как бы к нему не относиться.
Мы переживаем теперь какое-то магическое оживотворение всей истории русской политической жизни на фоне глубокой болезни нашего государственного организма. И пусть образы этой мысли в их нынешней лихорадочной интерпретации нередко похожи на бред, – все же это бред великого народа, в тысячу раз более содержательный и плодотворный, нежели здравое житие всякого рода дутых карликовых ничтожеств, высыпавших, подобно грибам, на нездоровом стволе современного человечества.
Нет, ни нам, ни «народу» невместно снимать с себя прямую ответственность за нынешний кризис – ни за темный, ни за светлый его лики. Он – наш, он – подлинно русский, он весь в нашей психологии, в нашем прошлом, – и ничего подобного не может быть и не будет на Западе, хотя бы и при «социальной революции», внешне с него скопированной…
И если даже окажется математически доказанным, как это ныне не совсем удачно доказывается подчас, что девяносто процентов русских революционеров – инородцы, главным образом евреи19, то это отнюдь не опровергает чисто русского характера движения. Если к нему и прикладываются «чужие» руки, – душа у него, «нутро» его, худо ли, хорошо ли, все же истинно русское, – интеллигентское, преломленное сквозь психику народа.
Не инородцы революционеры правят русской революцией, а русская революция правит инородцами революционерами, внешне или внутренно приобщившимися «русскому духу» в его нынешнем состоянии. Это – свойство всякого подлинно великого национального движения. «Не люди двигают революцию – говорит знаменитый французский философ реакции Ж. де Мэстр, – революция пользуется людьми. Очень хорошо утверждают про нее, что она идет сама собой»…
И глубоко упадочные, декадентские разговоры о каком-то инородческом «засилии» (в смысле духовного пленения) над нынешней Россией являются, воистину, не только тягостнейшим, но и совсем незаслуженным оскорблением родины.
НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ОКТЯБРЯ
НАЦИОНАЛ-БОЛЬШЕВИЗМ
(Ответ П.Б. Струве20)
Из всей обширной критической литературы, посвященной «национал-большевизму», статья П.Б. Струве в берлинском «Руле» представляется наиболее примечательной. Она сразу берет проблему в корне, выдвигает самые существенные, самые серьезные возражения, формулируя их выпукло, лапидарно и изящно. В ней нет ничего лишнего, но главное, что можно сказать против оспариваемой позиции, исходя из ее же собственного отправного пункта («имманентная критика»), – ею сказано.
Тем отраднее констатировать ее внутреннее бессилие по существу опровергнуть национал-большевизм в его основных утверждениях. Даже и наиболее, казалось бы, веские, наиболее убедительные на первый взгляд аргументы, по-видимому, неспособны поколебать этой точки зрения, завоевывающей ныне все более широкие симпатии в стане русских патриотов.
Разберемся в интересующей нас статье.
1Решающая ошибка П.Б. Струве состоит в том, что он смешивает большевизм с коммунизмом. Исходя из этого невероятного и недосказанного им отождествления, он и получает легкую возможность утверждать «абсолютную и объективную антинациональность большевизма».
Я готов согласиться с П.Б. Струве, поскольку острие его полемики направлено против ортодоксального коммунизма. Едва ли реже, чем моим нынешним политическим противникам, приходилось мне самому подчеркивать чрезвычайную экономическую вредоносность коммунистического режима в современной России (эта сторона примиренческой позиции уже отмечалась в критической литературе: ср… напр., статьи Пасманика в «Общем деле» и проф. Ященко в № 5 «Русской Книги»). Струве совершенно неправ, заявляя, будто национал-большевизм, увлекшись государственным фасадом Советской России, склонен «идеализировать весь ее строй» (т. е., очевидно, включая и социально-экономическое экспериментаторство?) Этого никогда не было и не могло быть.
Но ведь в том-то и дело, что советский строй не только не исчерпывается экономической политикой немедленного коммунизма, но даже и не связан с нею органически и неразрывно. Сам Струве несколькими строками ниже говорит о большевизме как о «государственной системе», представляющей собою «чистейшую политическую надстройку без экономического базиса или фундамента». Таким образом, необходимо признать, что качество «абсолютной и объективной антинациональности» присуще не большевизму, как таковому, а лишь той экономической политике, которую вела большевистская власть в период гражданской войны в неоправдавшемся расчете на близкую мировую революцию.
Однако общая обстановка заставила ее изменить систему своей экономической политики. Пришло время, когда хозяйственная опустошительность социального опыта уже не может более компенсироваться никакими политическими успехами революционной власти. Государство затосковало по хозяйству. На наших глазах происходит то тактическое «перерождение большевизма», которое нами упорно предсказывалось вот уже более полутора лет (см. хотя бы мою статью «Перспективы» в сборнике «В борьбе за Россию»), и ориентация на которую есть один из основных элементов национал-большевистской идеологии и тактики. Коммунизм из реальной программы дня постепенно становится своего рода «регулятивным принципом», все меньше отражающемся на конкретном организме страны. Советская власть капитулирует в сфере своей экономической политики, – какими бы правоверными словами эта капитуляция ни прикрывалась ее официальными представителями.
Совершенно верное указание на национальную вредоносность коммунизма бьет, таким образом, мимо «примиренцев», поскольку они утверждают (а жизнь подтверждает), что большевизм эволюционно принужден будет во имя сохранения своей «эффектной политической надстройки», нужной ему для мировых целей, ликвидировать хозяйственно не оправдавший себя «базис» насильственного, «азиатского коммунизма». Тем самым и фасад мало-помалу утратит свою кажущуюся «призрачность» и обманчивость.
При этом для нас имеют лишь второстепенное значение мотивы, которыми руководствуется советская власть в своей «эволюции». П.Б. Струве правильно подчеркнул в первой своей статье наше утверждение: большевизм может осуществить известную национальную задачу вне зависимости от своей интернационалистической идеологии.
Другой вопрос – удастся ли советской власти в тяжелых условиях современной русской жизни перевести страну на «новые хозяйственные рельсы». Но что она принуждена «искренно» и всеми силами стремиться к этому, – сомнений быть уже не может. Равным образом ясно, что это ее устремление – объективно в интересах страны. Следовательно, оно должно встретить активную поддержку со стороны русских патриотов. Другой же путь – «возврат к капитализму» через новую политическую революцию – при данной обстановке несравненно более эфемерен, извилист и разрушителен.
2Государственная «надстройка» имеет самостоятельный корень и самодовлеющее значение. Государственная мощь созидается духом в еще большей мере, нежели материей; тем более, что здоровый дух в конечном счете неизбежно дополняет себя и материальной мощью – облекается в золото и ощетинивается штыками. Вообще говоря, терминология марксизма, которой зачем-то пользуется П.Б. Струве в нашем споре, совсем не идет к делу и лишь напрасно затемняет проблему. Ни для него, как для участника «Вех», ни для меня, как их воспитанника, не может быть сомнения в огромной и творческой ценности самого начала государственной организации, как такового. В социальной жизни «надстройка» может подчас сыграть созидательную и решающую роль. Она не есть непременно нечто вторичное и производное, фатально предопределенное фундаментом. Она может сама обрести базу, причем нет математически установленного соотношения между данной конкретной надстройкой и определенной конкретной базой. В творческих поисках экономической основы государственное здание может само себя трансформировать. Нет надобности его во что бы то ни стало разрушать до тла, чтобы не очутиться перед сплошной грудой развалин без всякого фундамента и без всякой постройки вообще. Спасение приходит часто через «политику», через «фасад» – так сказать, сверху, а не снизу. Как же игнорировать политическую организацию, которую сумела выковать наша революция, только на том основании, что до сего времени эта организация сочеталась с утопической и вредной системой хозяйствования?
Не могу не признаться, что с моей точки зрения правительства Львова и Керенского, в полтора года доведшие (пусть невольно) страну до полного государственного распада методами своей политики, едва ли не в большей степени заслуживают названия «абсолютно и объективно антинациональных», нежели большевизм, сумевший из ничего возродить государственную дисциплину и создать хотя бы «эффектный фасад государственности». Для начала и это бесконечно много. Через мощную, напряженно волевую власть, и только через нее одну, Россия может прийти к экономическому и общенациональному оздоровлению. Какой же смысл расшатывать в таких муках создавшуюся революционную власть, не имея взамен никакой другой, – да еще тогда, когда наличная власть делает героические усилия восстановить государственное хозяйство, хотя бы путем постепенного возвращения к «нормальным условиям хозяйственной жизни», до сих пор ею по принципиальным соображениям уничтожавшимися?
Я понимаю «формальных демократов» и радикалов-интеллигентов старого типа в их органической ненависти к «московским диктаторам». Эти по своему цельные, хотя и мало интересные люди еще долгое время останутся в России профессионалами подполья и перманентными обитателями Бутырок. Но разве место в их рядах или рядом с ними тем, кто так чуждается «дореволюционной интеллигентщины» и постиг до конца логику государственной идеи?
Пусть конечные цели большевиков внутренно чужды идеям государственного и национального могущества. Но не в этом ли и заключается «божественная ирония» исторического разума, что силы, от века хотящие «зла», нередко вынуждаются «объективно» творить «добро»?..
Откровенно говоря, меня прямо поражает утверждение П.Б. Струве, что «события на опыте опровергли национал-большевизм». Мне кажется – как раз наоборот: события покуда только и делают, что подтверждают его с редкостной очевидностью, оправдывая все наши основные прогнозы и систематически обманывая все ожидания наших «друзей-противников». Идеология примиренчества прочно входит в историю русской революции. Кстати, простая хронологическая справка опровергает догадку Струве о причинной зависимости этой идеологии от эпизодических большевистских успехов на польском фронте: определяющие положения национал-большевизма, тогда уже «носившиеся в воздухе» и проникавшие к нам из глубин России, были мною формулированы печатно в феврале 20 года, а устно и предположительно (ближайшим политическим друзьям) – еще раньше, в последние месяцы жизни омского правительства. Будучи внутренно обусловлена анализом русской революции, как известного сложного явления русской и всемирной истории, идеология национал-большевизма внешне порождена приятием результата нашей гражданской войны и открыто выявлена за границей в связи с ликвидацией белого движения в его единственной серьезной и государственно-многообещавшей форме (Колчак-Деникин). Струве прав, признавая, что это течение «родилось из русской неэмигрантской почвы и отражает какие-то внутренние борения, зачатые и рожденные в революции». Дни польской войны дали ему лишь яркий внешний пафос, естественно потускневший после ее окончания, но сделавший свое дело, широко распространив лозунги и проявив лик народившегося течения. Логическое же его содержание было нисколько не поколеблено неудачным исходом польской войны. Дальнейшие события – крушение Врангеля, сумевшего лишь обеспечить Польше рижский мир21, явное обмельчание и абсолютное духовное оскудение дальнейших белых потуг (ср. позорище нынешнего Владивостока), и, главное, начавшаяся тактическая эволюция большевизма – все это лишь укрепило нашу политическую позицию и обусловливало ее успехи в широких кругах русских националистов, заметно разочаровавшихся в эмигрантской «головке».
Мы никогда не ждали чуда от нашей пропаганды и не прикрашивали безотрадного состояния современной России. Приходилось выбирать путь наименьшего сопротивления, наиболее жизненный и экономный при создавшихся условиях. Нельзя было не предвидеть всей его тернистости и длительности, но выбора не было.
Пусть П.Б. Струве перечтет статьи своих единомышленников за последний год и сравнит их с литературой национал-большевизма: кто проявил большую трезвость, большее чутье действительности, и кто обнаружил больше политического «сумбура»? Кто сумел установить известную историческую перспективу, и кто фатально принимал всех мух за слонов, настоящего-то слона так и не удосужившись приметить?..
3Наконец, что же противопоставляется самим Б.П. Струве отвергаемой им политической тактике? – Неясно. – «Сумбурно». Дразнящая «апория» на самом интересном месте, как в ранних диалогах Платона.
Впрочем, в «Размышлениях о русской революции» высказывается такой прогноз-императив:
«Русская контрреволюция, сейчас смятая и залитая революционными волнами, по-видимому, должна войти в какое-то неразрывное соединение с некоторыми элементами и силами, выросшими на почве революции, но ей чуждыми и даже противоположными» (с. 32).
Эта туманная фраза (сама по себе дающая материал и для выводов в духе национал-большевизма) получает известное разъяснение в анализируемой статье из «Руля». И это разъяснение делает ее в моих глазах уже совсем неприемлемой. «Некоторые элементы и силы» – это, очевидно, прежде всего красная армия, которую П.Б. Струве и рекомендует использовать непосредственно в целях контрреволюции, т. е. направить ее против большевистского режима в той революционной борьбе, которую должны с ним вести национальные силы.
Этот рецепт при современной политической конъюнктуре явно неудачен: в лучшем случае он утопичен, а в худшем – антинационален и противогосударственен. Если он имеет в виду безболезненный и «в полном порядке» акт выступления красной армии (со всеми ее курсантами) против нынешней русской власти, во имя определенной идеи или определенного лица, – то он просто «лишен всякого практического смысла», и из него, как из наивной фантазии, «нельзя извлечь никаких директив для практических действий», даже при признании его «теоретически правильным». Если же он стремится разложить красную армию теми методами, какими в свое время большевики разлагали белую, – он национально преступен и безумен, ибо разрушит те «белые принципы», которые, по меткому замечанию Шульгина, переползли-таки за линию красного фронта в результате нашей ужасной, но поучительной гражданской войны. Я убежден, что именно П.Б. Струве должен понимать лучше других всю безмерную опасность внесения революции в красную армию, всю недопустимость новой демагогической дезорганизации русской военной силы. Зачем же бросать недоговоренные лозунги и двусмысленные рецепты? К чему этот рецидив красной большевистской весны?
Момент конфликта революции с «некоторыми элементами и силами, выросшими на ее почве, но ей глубоко чуждыми», еще далеко не настал и пока что он даже не обрисовывается впереди. Напротив, в данный момент наблюдается скорее своеобразное взаимное сближение этих двух факторов современной жизни России. Нет смысла искусственно вызывать или форсировать их конфликт, – гораздо более целесообразно добиваться возможно большего органического или даже механического приспособления революции к национальным интересам страны, хотя бы формально и внешне победа осталась за интернационалистической революцией, хотя бы лозунги ее были по-прежнему внешне противоположны началам национализма и государственности. И та сторона национал-большевизма, которую Струве неправильно называет «идеологией национального отчаяния», как раз и учитывает известную полезность революционной фирмы в «защитных» государственных целях. Не совсем для меня понятная ссылка на «чудовищное лицемерие и маккиавеллизм» такой точки зрения не может служить ее убедительным опровержением. Тем более, что ведь сама-то революция «субъективно» действует здесь без всякого лицемерия и маккиавеллизма. Следовательно, известные и чисто конкретные результаты (хотя бы они были и очень далеки от заправской «мировой революции») могут быть достигнуты. Для патриота же все действенные пути сохранения и восстановления родины, мыслимые при данных условиях, должны быть сполна использованы.
Тактика национал-большевизма столь же осмысленна, сколь ясна и внутренно цельна его идеология.
IGNIS SANAT22
Не могу удержаться, чтобы не откликнуться несколькими строками на статью Е.Е. Яшнова «Попутные мысли». Его общая концепция мне очень близка, его конкретные политические рецепты я всецело считаю своими, равно как и его подходы к основным идеологическим проблемам современности.
Но решительно не могу согласиться с его неожиданно прямолинейной и отвлеченной трактовкой революции как сплошного, всестороннего зла. Мне кажется, такая трактовка прежде всего несовместима с общими посылками того философско-исторического оптимизма, который исповедуется самим автором статьи (ср. его статьи в первых номерах «Русской жизни»). Ведь он так удачно возражал впавшему в манихейство П.Б. Струве, восставшего против осмысливания революции, и так убедительно доказывал глубокую внутреннюю ее неизбежность, ее исторический смысл. Зачем же после этого оспаривать правомерность апелляций к смыслу и праву мировой истории, обличая в них «исторический субъективизм (одному кажется так, другому наоборот)» или даже «искаженные (?) религиозные представления»? Тут сразу же получается какая-то невязка, причем, не скрою, мне особенно невдомек было слышать эти грубо релятивистские утверждения из уст человека, считающего себя сторонником идеалистического миропонимания славянофилов, Достоевского, Соловьева и др.
Так же, как и Е.Е. Яшнов, я весьма далек от революционного романтизма и отнюдь не склонен неумеренно восторгаться конкретным обликом русской революции. Много в этом облике дурного, темного, отталкивающего, много такого, что должно преодолеть. Но когда на этом основании полагают уместным предаваться сарказму по поводу «какой-то новой России» и уподоблять революционный процесс бессмысленно разрушительному пожару, то происходит совершенно непохвальный скачок мысли.
Пожар есть, по большей части, нечто внешнее и случайное, между там как революция – глубоко закономерна, исторически предопределена. Яшнов сам прекрасно показал в своей прошлой статье, что она «приближалась к России не как тать, а совершенно явно». Революция выявляет собою органические потенции нации, выводит наружу ее внутреннюю болезнь. Она одновременно выявляет и преодолевает эту болезнь. Отсюда ее «коренное худо» коренится не столько в ней самой, сколько в ее причинах, в порочном наследстве, которое она принимает, чтобы погасить. Воистину, революция сорвала вековые обручи (порядком подгнившие) с великой русской бочки, и это менее всего вина революции, что содержание бочки оказалось достаточно горьким. В конечном счете едва ли не лучше, что оно обнаружилось и проветривается, ибо иначе оно не только само прогоркло бы уже вовсе, но и проело, отравило бы и самую форму свою, самый свой образ, дерево бочки. На свежем же воздухе, даст Бог, развеется и горечь… а за новыми обручами дело не станет и уже не стоит…
«Если бы пожара не было, было бы лучше». По отношению к пожару, возникшему случайно, эта фраза, быть может, и не лишена известного смысла. Но по отношению к происшедшей революции она в высокой мере беспредметна. В избе, которая завтра сгорит от обороненного пьяным мужичком огонька, сегодня нет ничего, что предвещало бы пожар. В России перед февралем все вопияло о грядущей революции. И те, кто, мудро предвидя ее ужасы, хотели ее предотвратить, чувствовали свое трагическое бессилие это сделать. Скопившееся, набухшее зло требовало выхода, борьбы, организм стихийно требовал его уничтожения. Конечно, лучше бы его уничтожить «эволюцией» – тут у нас нет разногласий, ибо мы не революционеры. Но, к несчастью, объективно на эволюцию не хватило ни средств, ни здоровья, ни времени. Однако, с другой стороны, не случилось и полного торжества болезни – т. е. безропотной смерти организма. Он нашел в себе силу, но не для мирного и бесшумного преодоления зла, а для бурного, напряженного, изнуряющего протеста против его влияний, обнажающего разом весь их размах…
Итак, революция есть не только проявление зла, но и начало победы над ним. Она – жар, температура в сорок градусов, возвещающая болезнь, терзающая организм, но и защищающая его от губительных микробов. – Это уподобление столь же банально, но и гораздо более верно, нежели яшновский «пожар».
Революция – не смерть, но симптом болезни, нередко болезни роста. Она не только разрушает, как пожар, но непременно и созидает. Точнее, создает условия созидания, убивая факторы, ему препятствовавшие, и выводя на свет новые творческие силы. Всегда и неизбежно сопровождается она нарастанием «государственно-сверхрациональных импульсов» в широких народных массах охваченной ею страны. Не говорю уже о том, что и самый бред ее зенитного периода не может не считаться характерным и плодотворным, обогащающим всемирную историю «идеями-силами» большого стиля и назидательной поучительности.
Повторяю, было б лучше, если бы микробы зла гибли от слова. Но что же делать, раз царство зла реально и требует страданий для своего искупления? «На розовой воде и сахаре не приготовляются коренные перевороты: они предлагаются всегда человечеству путем железа, огня, крови и рыданий… Все болит у древа жизни людской» (К.Леонтьев). – Если не помогает слово, поможет железо. Не поможет железо – спасет огонь. Не шальной огонь случайного пожара, не до красна, до бела раскаленная сталь врачебного инструмента. Врач тут – исторический Разум, Верховная Воля, Начало Добра, «общие линии которого мы смутно чувствуем, а конечных целей не понимаем, ибо они – в Непостижимом («Нищета рационализма» – «Русская Жизнь» № 2). Исторический Разум, живущий в нации, в государстве, врачующий их недуги их же собственными орудиями и силами…