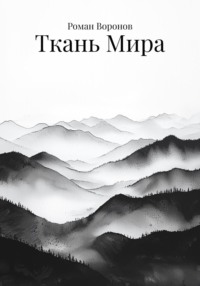полная версия
полная версияСемь Чудес Рая
– Я не построил дом, сынок, – старик перебирает слова, как четки. – Не сделал чего-то важного.
– Зачем дом, отец? Дуб, что ты посадил, был тебе крышей от невзгод, под его сенью ты поцеловал маму, в его прохладе на свет появился я.
– Но что останется тебе после меня? – запричитал старик.
– Дуб, твой дуб будет моим, – успокоил его сын.
Старость не только капризна, но и упряма.
– В дуб может попасть молния, крот подточит его корни, термит сожрет плоть, а засуха – листья, и тогда не останется ничего.
Сын подсел к старику:
– Но ведь дом столь же хрупок: подлый враг разрушит стены, землетрясение разверзнет холм и поглотит все, уживающееся на нем, или завистливый сосед спалит крышу темной ночью.
– Дом – не просто стены, сын, – старик снова искал «кувшинку» в своей голове. – Это любовь, которая жила в них, твой смех и материнские слезы. Дом – это эхо прожитого, неумолкающее в укромных уголках чердака или под лестницей, ведущей в погреб. Дом – это… Даже над развалинами или пепелищем будет витать нечто, притягивающее сюда всегда.
– Отец, слова твои звучат проникновенно. Отчего же ты не построил столь прекрасный дом?
Старик влажными глазами посмотрел на сына:
– Я был занят твоей матерью. Наши отношения пожирали все мое время, все силы и помыслы. Она заменила мне Бога. Теперь, прожив годы без нее, я понимаю: любое замещение его, любая подмена – путь ограничения души, но, увы, поздно, и дома уже не построить…
– Отец, мне тяжело видеть твои слезы, – немолодой человек обнимал старика за худые плечи, стараясь успокоить его. Большая светлая комната впускала в себя солнечный свет через широкое окно, за которым обезумевший от счастья ветер стряхивал с одуванчиков белые паппусы, вовлекая в свой безудержный танец деловитых шмелей и легкомысленных бабочек.
Сын и отец в пустом доме на цветущем холме, окруженные облаком пыльцы и туманом безвременья, – вечная картина земного бытия в позолоченной рамке обстоятельств.
– Я выстроил дом и вырастил тебя. Оба эти блага замкнуты на мне: мой дом, мой ребенок, мое, мое… – старик вздохнул, оглядывая стены, коими отгородился от внешнего мира. Тихий человек, поселившийся в тихом месте, сколотивший свою крепость, не потревожив ни одной птицы, вырывший ров вокруг нее, не спугнув ни одной полевой мыши, обвенчавшийся со своей супругой так, что Всевышний случайно узнал об этом, явивший миру сына, ни разу не крикнувшего: «Мир, я здесь!»
– Чего же не хватает тебе, отец?
– Дерева, я не посадил дерево.
– Ты сделал многое другое.
– Но все – для себя и ничего для мира, – старик снова вздохнул и продолжил: – Сходи в ближайший лес, сынок, самому мне не дойти, принеси семя дуба – быть может, успею вложить его в землю и дождаться ростка.
– Я сейчас, отец, я быстро, – мужчина поднялся с места и выбежал из дома.
– Только будь осторожен, сынок, клыкастый зверь или лихие люди… – прошептал старик и умер.
– Что выберешь? – голос, неприятно дребезжащий в голове, прозвучал отовсюду.
Душа съежилась: выбор, снова выбор… Здесь это чувствуется предельно тонко. Все три судьбы казались ей печальными, тусклыми, нежелательными. Душа-спутница так и не появилась при просмотре, а ведь в двух случаях она была. Сын, почти никак не проявивший себя, что за человек получился, дом из одной комнаты, а как выглядят остальные?
Душа решила поторговаться с голосом:
– А вариант с домом, сыном и деревом одновременно не рассматривается?
– Этот вариант не рассматривается советом, но есть еще и твой голос.
– Я за, – быстро ответила душа.
Голос усмехнулся:
– Есть препятствие, видимое совету, но не осознаваемое тобой.
– Что видит совет? – настороженно спросила душа.
– Твой кармический такт. Из трех семян одно унесет ветер, всходы дадут только два.
– Невезучая я, – разочарованно протянула душа.
Голос снова усмехнулся:
– У большинства воплощенных ветер уносит все семена.
– У большинства? – изумилась душа.
– Воплощенный может пребывать в собственном жилище, окруженный детишками, и любоваться через окна плодоносящим садом, но при этом не иметь ничего, – голос сделал паузу, – кроме Бога, которого не видит, заставленный атрибутами плотного бытия.
– Мне надо подумать, – взмолилась душа.
– Тебе надо осознать, – отрезал голос. – У тебя секунда.
– Пусть решит совет, – торопливо сказала душа, боясь пропустить срок воплощения.
– Совет, не услышав твоего голоса, выберет наилучшее для сущего, – голос, утверждая, казалось, задавал вопрос.
– Наилучшее для сущего – разве это плохо? – удивилась душа.
– Создатель хочет смотреть на себя критически, для этого части его наделены выбором. Решение совета будет нейтральным для тебя, воплощение пройдет по принципу «не навреди».
– Всему сущему? – вставила душа.
– Да, но без движения в духе останешься ты, – констатировал голос.
– Моя секунда еще не прошла? – заволновалась душа.
– Для осознания и принятия выбора, твоя секунда – вечность. Время в руках Творца безгранично, но не злоупотребляй им. Совет ждет твоего голоса, у тебя секунда.
Душа обратилась к просмотренному. Прожить жизнь, стирая в кровь ладони при обтесывании камней, любуясь сквозь облако доломитовой пыли на дерево, посаженное случайно и без желания, отказывая себе при этом в семейном счастье… Бр-р-р-р… не хочется. С другой стороны, замкнуться в тихом семейном мирке, окружив его валом отчужденности и самости настолько, что, закопавшись с головой, превратить собственную жизненную историю в могильный холм, на котором не то что дерево, крапива не захочет расти. Не хочу. И многим ли будет отличаться бытие с семьей под почти райским древом, дрожащей от дождя и холода вне стен, коими не озаботился я по причине пустых грез и мечтаний, от предыдущих вариантов? Нет, не многим.
Ветер, уносящий семя, одно из трех, не принесет покоя и удовлетворенности душе, ибо он… и есть мой голос. Голос, стремящийся сказать, поведать, направить, подсказать.
Осознание – это миг, тонкое пространство между тьмой и светом, промежуток от «не было» до «стало», и оно пришло к душе.
– Я выбираю Бога, – сильнее громов земных прозвучал голос души, – и передаю свое желание совету.
– Совет принял его, – ответил голос. – Твое воплощение начинается, ветер стих, в добрый путь.
Колыбель
Успокой меня, Боже,
Материнской рукой,
Что качнет из рогожи
Мой ковчег подвесной.
Знавал я одного молодого моряка, знаете, из тех, кто неприметен в бою и тих в компании, но вот именно такие недотепы, серые мыши, невзрачные и вечно отстраненные от всего, иной раз решают исход сражения, когда из орудийной прислуги, маленького человечка, всего лишь подносящего ядра к вечно голодному пушечному жерлу, по замысловатому капризу Фортуны становится вдруг испуганный юнга настоящим канониром и, заменив убитого прицельного, зажмурившись для верности, подносит фитиль к запалу, отчего заряд, выпущенный таким безобразным с точки зрения военной науки способом, влетает через ряд пробоин прямехонько в пороховой погреб вражеского линкора, превращая многопушечную махину в груду щепы, окутанную гигантским облаком дыма.
Но поскольку голос столь блестящего выстрела слился в тот момент с залповым хором, наш герой остался без заслуженной награды, хотя некоторые особо крикливые с верхней палубы пытались возложить лавровый венок победителя на свои бесстыдные головы. В конце концов виктория была поделена между командой равными долями рома и хвалебными речами, коих хватило бы и на потопление целой эскадры.
Ночью новоиспеченный канонир, болтаясь в полотняном гамаке, рассматривал балочное ребро квартердека, обгрызенное прямо над ним ядром противника в сегодняшнем бою. Не спалось. Молодой человек думал о превратностях судьбы, о случайностях и поворотах, придающих пресной, с легким оттенком уксуса жизни вкус хорошего портового вина. Еще утром противник, заметив их фрегат, втрое уступающий по вооружению, погнался за легкой добычей, не подозревая, что к полудню обречен на гибель неумелой рукой юнги, которому нынче ночью глаз не сомкнуть, ибо не глядя отправил на дно три сотни человеческих душ и явись перед ним сейчас архиепископ Мир Ликийских святой Николай Угодник да востребуй ответа за содеянное, так он и знать бы не знал, чего глаголить и как ответствовать.
Вспомнились ему тогда вдруг матушкины очи над колыбелькой и беленый каменный свод потолка. Качает маменька люльку, меняется лик ее с потолочной кладкой, потом назад, от белизны камня к голубизне глаз ее, и снова в темноту трюма, к обезображенной балке, которую надо бы укрепить, и боцман точно ткнет обрубленным пальцем в нее, но это завтра, а пока мама качает сыночка то ли рукой, то ли любящим взглядом.
– Маменька, – шепчет юнга, – неужто вы родили меня убить столько людей?
Мурашки бегут по коже, совсем юного канонира начинает трясти.
– Тише, тише, сынок, – отвечает женщина. – Каждый приходит в этот мир для чего-то: кому и мухи не обидеть, а тебе – потопить целый корабль.
– Но я не хотел! – восклицает юноша.
– Какого черта? – слышится из соседнего гамака.
Мама улыбается, глаза ее светятся нежностью:
– Всякая работа на Бога в почете, даже самая грязная.
– Но не убийство, маменька, – уже не скрывая слез, шепчет юнга.
– Сначала стрелять научись, – ворчит гамак слева.
Боковая волна, ухнувшая в правую скулу фрегата, отрывает юнгу от матушкиных глаз и кидает в объятия боцмана:
– Разговорчики, салага, твое бормотание слышно на полубаке. Если не заткнешься, отправишься в гости к морскому черту, там наговоришься.
Он раздраженно выпускает из своих лап гамак, и юноша возвращается к сиянию материнских глаз:
– Война, как и жизнь в целом, – это энергообмен. Любишь – делишься светом, убиваешь – питаешь тьму. Либо наполняешь Бога, либо отнимаешь у него.
– Не пойму, мама, – забывшись, снова вслух вопрошает юнга.
– Чертов слизняк не даст спать, – гамак соседа начинает недобро вибрировать.
– Нет ничего страшного, когда черпаешь из бесконечности, но восполнять ее – вот это поистине прекрасно.
– Богу все равно, убийца перед ним или святой? – возбужденно шепчет молодой человек.
Вместо ответа мама отталкивает от себя колыбельку, и перед глазами проплывает потолочный свод – небеса младенца с лампой вместо солнца и трещинами меж камней взамен невидимых линий созвездий. Корабль путешественника в этом космосе останавливается в дальнем пределе и вновь возвращается в земную юдоль, к материнским рукам.
– Бог видит разницу только в выборе, – спокойно отвечает она, – берешь или возвращаешь.
– Надо же, – выдыхает удивленно юнга.
– Надо бы тебя утопить, и прямо сейчас, – переходит к угрозам соседский гамак.
И колыбель медленно опускается в пучину, зеленой вуалью затуманивая взор, веки смежаются, и ребенок засыпает…
– Юнга, – голос незримой рукой хватает за грудки и вытряхивает из гамака юного матроса. Он большими глотками хватает воздух ртом, открывает глаза:
– Я утонул?
– Недалек тот час, сынок, – его заряжающий недовольно смотрит на помятый вид напарника.
– Боцманский свисток и дьявола поднимет с того дна, где он обитает, да видно, только не тебя. К орудию, нас догоняют.
Он бросился на опер-дек, к своей «малышке», юнга последовал за ним, не осознавая происходящего: то ли во сне, то ли наяву. Открыв пушечный порт, юнга, даже не взглянув на восходящее солнце, подкатил к «малышке» дюжину чугунных шаров, зафиксировал их петлей и замер в ожидании команды. Через мгновение тихо стало на всех палубах – на то он и военный фрегат: все быстро, четко и в срок. Стрелки оседлали ванты, канониры просушили запалы, боцман отсвистал «К бою готов».
Прицельный выставил рыжую бороду через порт наружу и глянул в фарватер. Подержав красный мясистый нос на ветру пару минут, он убрался внутрь и авторитетно заметил: – К полудню догонят, можешь доспать.
Юнга свернулся калачиком вокруг смертоносных зарядов, закрыл глаза и… белый свод потолка сменился маминым лицом.
– Меня ждет бой, мама.
– Тебя ждет выбор, сынок.
– Выбор чего, мама?
– Положения своей колыбели.
Юнга заворочался во сне, старый моряк взглянул на него и покачал головой:
– Кутенок, ей-богу, переживет ли сегодняшний день?
– Мама, расскажи про колыбель, – шепчут губы юноши.
– Бог каждое дитя свое поместил в колыбель из света и любви и качает ее, когда нужно сделать выбор, прямо как мать, когда успокаивает своего малыша, и каждый выбирает, остаться при Боге или вне его, – матушка отталкивает от себя мальчика, и юнга летит прочь от тепла ее рук и ласки глаз.
– Так что же мне, не стрелять? – кричит он исчезающей вдали матери.
– Без команды – нет, – хохочет канонир, глядя на растрепанного от видения юнца, и тычет пальцем в просвет пушечного порта.
Там вырисовывается хищный бушприт линейного корабля, грозный красавец заходит на залп правым бортом, тридцать два орудия зияют чернеющими жерлами, жадно высматривая добычу.
– Не повезло нам, сынок, – спокойно говорит канонир, – заряжай.
Юнга проворно вкатывает в пасть «малышки» ядро, но прицельный не успевает даже коснуться ее пока еще холодного тела, как противник, не дожидаясь выравнивания бортов, дает залп. Его трехрядный сине-золотой фасад, гордость корабелов, укутывается в белесое одеяло порохового дыма, изрыгнув из мягких складок черный рой чугунных жал.
Известное дело, на адмиральский корабль берут лучших пушкарей: парни прекрасно знают свое дело, в результате которого на фрегате сбита грот-мачта, от бизани осталась половина, фальшборт квартер-дека превращен в уродливую пилу, а сама палуба будто подметена гигантской метлой: ни людей, ни пушек; завершают картину болтающиеся на вантах в самых неудобных позах тела стрелков.
Но наступившую тишину разрывает команда лейтенанта «Бей», и оглушенный юнга поворачивается к напарнику – тот сидит возле своей «малышки» с запалом в руке, но совершенно без головы. Молодой моряк бросается к нему, выхватывая пальник из костенеющих пальцев, и подносит к пушке…
Колыбелька возвращается к матушке, в теплые объятия ее глаз.
– Для Бога важен выбор, – шепчет она, не двигая губами.
Фрегат дает ответный залп, но без «малышки», юнга задувает фитиль и подходит к порту – красавец линкор, слегка потрепанный после ответа с фрегата, выставил наконец роскошный борт для полного залпа. Секунда, и он погружается в облако белого дыма, а юнга – во тьму…
– Мама, я умер?
– Нет, сынок, ты только родился.
– А что стало с фрегатом?
– Он потоплен.
Колыбель плавно качается, как обломок обшивки на волнах. Мама улыбается, будто ничего не произошло.
– Нас сожгли, потому что я не выстрелил?
– Ты сделал свой выбор, в том месте и времени несколько сотен душ должны были скинуть плотные оболочки, что и произошло. Когда варят бульон, не важно, в каком месте лопаются пузыри.
– Люди – бульон для Бога?
– Бог и есть бульон, энергетический, люди же – его состав, их действия приводят к кипению.
– И гибели, – всхлипывает «новорожденный».
Колыбель медленно переворачивается и опрокидывает свое содержимое в воду. Глаза не видят дна, только сгущающуюся внизу темноту.
– Лопнувший пузырь теряет форму, но не суть, – звучит под водой успокаивающий голос матери.
Знавал я одного юнгу, знаете, из тех, кого больше прельщает сияние звезд на небе, нежели блеск золота в карманах, и не потому, что первого в избытке, когда солнце передает свою вахту луне, а второго не водится ни днем, ни ночью. Привычные резоны молодых людей понятны их старшим товарищам без объяснений – карьера, науки, женщины вкупе с безудержными увеселениями и пагубными пристрастиями к табаку и горячительным составам. Но наклонности нашего героя отличались от общепринятых в той среде, где угораздило очутиться ему вместе со своими фантазиями, явно неуместными на борту военного фрегата.
Сказать, что он выделялся из трех десятков молодых бедолаг, которых или сдали на службу обессилевшие от вечных проказ родители за пригоршню монет, или невменяемых прихватили хитрые рекрутеры за кабацким столом, заказав по пинте эля перед подписью на контракте капера, – значит соврать. Он не просто выделялся, он сиял тем светом, что притягивает и пугает одновременно, он был другой, чужой, не мы.
Боцман определил его в канонирскую прислугу, грохнув свою огромную пятерню на худое плечо юнги:
– Блаженному только ядра подкатывать, на большее не сгодится.
Старый канонир, в пару к которому определили юношу, рассказывал, как тот бормотал по ночам во сне сам с собой, выясняя у невидимого собеседника, что ему следовало бы сделать. Слово «выбор» звучало чаще остальных и возбуждало юнгу на раскачивание гамака. Крепкая затрещина успокаивала парня, мешающего своей болтанкой остальным, он засыпал, но несколько раз моряк видел собственными глазами, как его гамак замирал в неестественном с точки зрения физических законов положении.
Подобные заявления вызывали гомерический хохот у матросов, дружно советующих канониру не злоупотреблять ромом на ночь. Пушкарь клялся морским чертом и Девой Марией, чем усугублял свое положение – смех становился громче, а шутки в его адрес язвительнее.
Тремя неделями позже фрегат достиг экватора. Новичкам спустили парус в море и дружескими пинками скинули их в океан. Каждому впервые пересекшему эту воображаемую, но такую важную для моряков линию капитан предлагал пинту рома или иное желание, на выбор. Большинство соглашалось на выпивку, кто-то просил табаку, кто-то отменял ближайшую вахту, самый молодой пересеченец посягнул на святая святых: дунуть в боцманскую дудку. Наш герой, ей-Богу чокнутый, пожелал сойти на ближайший берег, что встретится по курсу, без разницы, будет он заселен кровожадными туземцами или необитаем вовсе.
Капитан сперва обомлел от такой просьбы, но, посмотрев в глаза юнцу, справедливо рассудил, что будет лучше избавиться от такого балласта, тем более по его же просьбе, но для порядка, недовольно сплюнув, проворчал:
– Как угодно, юнга, препятствовать безумию не стану. До земли пять дней ходу, это архипелаг из нескольких небольших островов, губернатором одного из них вы назначите себя сами.
После сказанного он выпустил в сторону юнги столь восхитительное табачное облако, что юноша громко чихнул, ударившись лбом о грот. Взрыв хохота команда сотворила такой, что могла поспорить с канонадой при известном сражении сэра Моргана, уже на службе Ее Величества с тремя испанскими галеонами, когда флагман палил с такой скоростью, что орудийная прислуга плескала воду на раскаленный чугун пушек, не боясь залить запальные отверстия, ибо те высыхали мгновенно, и можно было возобновлять стрельбу сразу же.
Кэп знал что говорил – благоприятный попутный ветер к заявленному сроку подогнал фрегат к весьма скромному каменному пузу, торчащему из океана футов на сто, не больше. Когда лот показал близкую песчаную отмель, бросили якорь и на всякий случай дали выстрел по группе кустарников, спугнув при этом с десяток мирно дремавших там пернатых обитателей этих земель. Стая сделала круг и вернулась на прежнее место, видимо, не имея возможности податься куда-то еще.
– Ваши соседи, юнга, – ухмыльнулся боцман, подходя к штормтрапу. Вся команда, кроме вахтенных, собралась тут же в ожидании развлечений, столь редких в дальних походах. Молодой человек легко перемахнул через фальшборт и задержался на верхней перекладине.
– Не передумал, сынок? – безразличным тоном спросил капитан. – Может, оно того и не стоит?
– Вы уходите в неизвестное известное, я же остаюсь в известном неизвестном, – ответил юнга.
– Парень, – возмутился боцман, – а нельзя ли просто спуститься к воде и не испытывать наше гостеприимство?
– И что же это значит? – поинтересовался капитан, которому вся эта болтовня начинала порядком надоедать.
– Это значит, сэр, что, выбирая войну, вы выбираете смерть, – юнга лучезарно улыбнулся.
– Что же выбрал ты? – капитан красноречиво посмотрел в сторону одиноко торчащего среди бескрайней воды безлюдного куска скалы.
– А я выбираю смерть, чтобы не выбирать войну.
Подобное жонглирование словами весьма забавляло команду.
– Эй, юнга, может, пинту рома и не надо выбирать смерть? – предлагали одни.
– Только пусть сначала спустится и прополощет подштанники, – язвили другие.
– Вы превратили военный корабль в торговца, молодой человек, – прервал перепалку капитан. – Спускайтесь, мы уходим.
– Поднять якорь, брамсель ставить, живо, бесхвостые обезьяны, – заорал боцман. Все бросились выполнять команды, и на юнгу, соскользнувшего с трапа в море, уже никто не обращал внимания.
Остров, до которого ему предстояло добраться, входил в состав архипелага из еще пяти таких же кусков остывшей лавы, растянувшихся на двадцать миль в форме подковы. Шестипалый вулкан, проснувшийся на глубине много веков назад, успел вытащить наружу только кончики своих раскаленных пальцев. Если представить себе описываемые события на большом пальце, то возле мизинца разворачивалась схожая сцена.
Четырехмачтовый шестидесятипушечный гигант снялся с якоря, оставив в кильватере маленькую шлюпку с юнгой, пожелавшим сойти на одиноком, лишенным всего, что может расти на клочке земли, лысом островке, лишь бы не продолжать пребывания на несущем смерть судне.
Последними словами этого странного юноши, покидающего борт линейного корабля, были:
– Выбирая смерть, смерть и получите.
Возвращение
Вымаливаешь не свое,
Ибо твое все уже при тебе.
Мир со всеми его запахами, полутонами, красками, рефлексиями и утопиями, иллюзиями, маниакальностью и безответственностью, святостью и возвышенностью, Содомом и Гоморрой, массовостью и вождизмом, и Иисусом Христом, одиноко распятым над многочисленными шахтами баллистических ракет, в одночасье лишился… меня.
– Невелика потеря, – скажете вы и будете чертовски правы. Что я, мазок на полотне Моне, тот, случайный, которого Клод и не заметил, по сути, клякса. Убери его и что?
– Это уже будет не Моне, – возразит искусствовед.
– Халтура, – поддакнет критик.
– Конечно, нет, – заступлюсь я за мастера, – великое останется великим и любоваться творением Моне, как и Создателя этого Мира, не перестанут, ибо один мазок исчезает, давая место другим…
Я стоял на перроне в полном одиночестве. Паутина ржавых стальных балок над головой, казалось, с трудом удерживает в своих проклепанных пальцах мутные стекла, через которые едва пробивался желтоватый бледный свет. Воздух был влажен, тяжел и сперт и нес в себе тревожную зловещую тишину. Если в этом мире и существовала жизнь, она едва теплилась в моем съежившемся сердце, каждый удар которого с испугом отзывался в грудной клетке приглушенным «тум».
Там, где железные лапы причудливого навеса упирались в пол, скапливалась тьма, пряча в своих объятиях нечто, чьи взоры холодили спину и парализовали шею. Оторвать взгляд от путей и обернуться было страшно, очень страшно. Рама навеса, словно под чудовищным давлением желтого свечения, кряхтела в местах, где ее кости соединялись друг с другом искривленными болтами, полупрозрачные стекла трещали сложными узорами по той же причине; что-то, походившее на звуки падающих капель в пустое ведро, методично отдавалось в моей голове каким-то инфернальным метрономом, отсчитывая, отсчитывая, отсчитывая…
«Тум», – ухнуло в груди. – Зачем я здесь?
«Тум-м-м-м-м», – загудело в позвоночнике. – Я жду поезд.
– Какой поезд, что за поезд? – засуетилось внутри. – «Тум, тум, тум».
На спине цепко закрепилась колючими глазами темнота, так хочется повернуться и посмотреть туда, но я жду поезд и не могу отвести взгляда от путей. Я боюсь пропустить его и остаться здесь, в этом ужасном месте с его гнетущей музыкой железного оркестра под мутно-желтым небом.
Вот-вот подойдет поезд и отвезет меня на другой вокзал, туда, где хорошо, где свет и люди, я уверен в этом и готов терпеть на этом жутком перроне сколько нужно, только пусть поезд обязательно придет.
Тум-тум, тум-тум, не стук ли это колес? Воздух здесь упруг и напряжен, быть может, я не вижу, но уже слышу свое скорое избавление. Глаза мои, как руки обезумевшего от страха, цепляются за шпалы, словно за перекладины лестницы, но туман, пляшущий возле самого перрона, прячет мои надежды, затягивая, запихивая их в непроглядное жерло, узкую, вытянутую пасть, в серый, клубящийся тоннель… Там, в самом конце, вдруг возникает светящаяся точка.
Тум, тум, тум, тум – начинают оживать внутри меня там-тамы, точка растет, приближается, озаряя стены темной кишки пульсирующими лучами весеннего солнца.
«Поезд, наверняка это поезд» – поет все мое нутро, мышцы шеи расслабляются, я могу, но уже не хочу оборачиваться на пугающую тьму. Зачем? Еще мгновение и меня умчит мой поезд. Свет в тоннеле становится ярче, но не я лечу к нему (надо же), а он приближается к перрону.