
Полная версия
Орест Кипренский. Дитя Киприды
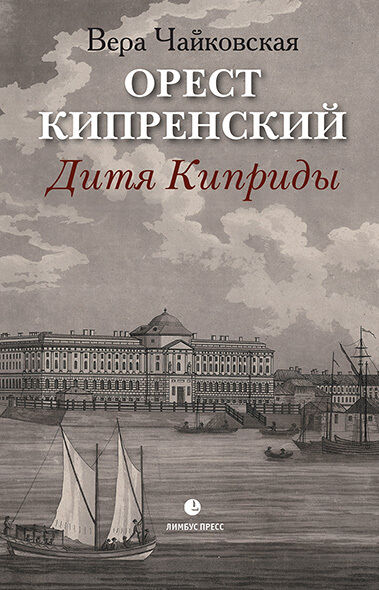
Вера Чайковская
Орест Кипренский.
Дитя Киприды
© Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, гравюра на обложке
© Вера Чайковская, 2021
© ООО «Издательство К. Тублина», 2021
© Александр Веселов, обложка, 2021
www.limbuspress.ru
Вступление
Жизнь выдающихся людей часто овеяна легендами и словно бы отделена непроницаемой стеной от жизни последующих поколений. Но я помню, как школьницей ходила в Третьяковку и с каким-то радостным удивлением вглядывалась в портреты Кипренского – мальчика Челищева, прелестной Хвостовой…
Что меня удивляло? Отсутствие дистанции между художником и мной, отсутствие сословных, временных и каких-то иных барьеров. Валерий Турчин в своей полной интересных, тонких, порой спорных догадок монографии о художнике выразил это на «научном» языке следующей фразой: «Прозрачная стена, условно отделяющая в портрете 18-го века изображенного от зрителя, теперь опущена»[1].
От портретов шло тепло, даже жар художнических чувств. Мои любимые персонажи были просты и доброжелательны, открыты и бесхитростны. Это впечатление я запомнила.
Откуда оно? Я как-то сразу поняла, что так прямо, просто и искренне говорит со мной художник с удивительным для России, каким-то античным именем: Орест, и столь же античной, созвучной имени богини любви Киприды фамилией: Кипренский. (Первоначальный вариант фамилии, написанной в прошении его отца в Академию художеств, был Кипрейский. Но и тут звучит имя богини.)
Потом выяснилось, что вокруг его творчества и судьбы кипят исследовательские страсти. Что в его жизни множество до сих пор не разрешенных загадок. Что весь его путь овеян легендами, иногда возвышенного, а иногда прямо-таки зловещего характера. И это тоже очень в духе романтизма, любящего такие полюса.
В детстве мне довелось прочесть романтически сгущенный, со зловещими подробностями вариант жизни художника, представленный в повести Константина Паустовского, написанной в 30-х годах XX века. Там фигурировали и злодейски сожженная им натурщица, и ее малолетняя дочь, которую он полюбил, и неумеренная страсть к деньгам, погубившая талант, – прямо как в гоголевском «Портрете». Это все врезалось в память, так как было «романтично» и неожиданно. Но потом выяснилось, что все эти «сведения» – или выдумка писателя, или прямая клевета современников, к которой Паустовский отнесся некритически, благо она помогала «расцветить» биографию.
В жизни Кипренского чрезвычайно много «лакун» и «белых пятен», загадочных провалов, о которых документы молчат. Загадка его рождения, внезапность проявления таланта, непонятные истории любви…
Художник своего сердца не открывал даже в письмах. Любопытно, что он много писал и рисовал современных ему поэтов: Жуковского, Батюшкова, Пушкина, Вяземского, Мицкевича, Гете, но ни один современник не пишет о его любви к поэзии. В отличие от Карла Брюллова он стихов в своих письмах и высказываниях не цитирует. Но, судя по портретам, он глубоко проник в поэтический мир каждого изображенного им поэта. Однако это какой-то скрытый пласт, ничем не документированный. Все личное и интимное им скрыто даже в письмах к скульптору Самуилу Гальбергу – наиболее близкому к нему корреспонденту.
Возникающие лакуны часто заполнялись и заполняются до сих пор легендами о художнике. Причем такой тонкий исследователь, как Турчин, ничего против них не имеет: «…не зачеркивать легенду… а найти полагающееся ей место – вот в чем задача исследователя»[2].
Сам Турчин, как мне кажется, очень точно почувствовал «легендарный», «мистификаторский» момент, идущий от самого Кипренского. Беда только в том, что Турчин склонен не доверять в высказываниях художника многому, что теперь, благодаря новонайденным документам, нашло неопровержимое подтверждение. Положим, то, что художники в Неаполе и Риме сочли некоторые работы Кипренского, в частности «Портрет Швальбе», произведениями старых мастеров, Рембрандта или Рубенса, Турчин считал выдумкой Кипренского. Но документы, как пишет Евгения Петрова, «абсолютно снимают с Кипренского обвинение художника в мистификации»[3].
У Турчина есть еще целый ряд таких необоснованных обвинений. Вместе с тем сама его догадка о склонности Кипренского к «мистификациям», представляется мне очень верной и находящей подтверждение в творческой судьбе художника. Просто надо найти причины и истоки этих «мистификаций», что нам и предстоит сделать на страницах этой книги.
В последние годы восторжествовал «фактографический» подход к жизни художника, который заставил заново вернуться ко многим «легендам» и полулегендам. Дело в том, что вышел в свет сборник, собравший воедино все известные материалы о художнике, под редакцией Я. В. Брука. В составлении сборника принимала участие и Евгения Петрова, которая в своей более поздней содержательной монографии о Кипренском последовательно разоблачает многие возникшие исследовательские мифы на основании документов и фактов[4]
Но и позиция предельной верности фактам – тоже не совсем меня удовлетворяет. Ясно же, что многое, в особенности щекотливое и тайное, в документах не фиксируется. Существует устное предание, которое тоже может до нас не дойти. Да просто есть масса жизненно важных событий, которые ускользают от письменной фиксации. Там, где факты молчат, как советовал еще блистательный филолог и беллетрист Юрий Тынянов, остается довериться творческому воображению. Необходимо восстанавливать некие едва намеченные «узоры» судьбы. Причем лакуны, пробелы и тайны останутся в любом случае.
Так что факты фактами, а жизнь, тем более такая бурная и неуправляемая, как жизнь Кипренского, не укладывается в рамки фактографии. Необходимо доверять интуиции и выдвигать гипотезы.
Глава 1.О личном мифе. «Звездный мальчик»
Происхождение художника загадочно. В XIX веке все биографы считали его отцом крепостного крестьянина, лютеранина, судя по фамилии, немца – Адама Швальбе. Но в XX веке в монографиях о художнике Валерия Турчина и Дмитрия Сарабьянова он безоговорочно признается незаконным сыном помещика Алексея Дьяконова, владельца Швальбе, и Анны Гавриловой – матери художника[5]. Это вроде бы подтверждается тем, что младенец в метрической книге церкви Преображения Господня города Копорья значится как «незаконнорожденный», и некоторым «замешательством» священника Петра, который не обозначил имени не только отца, но даже матери ребенка. Написано только имя Орест – достаточно претенциозное для крепостного крестьянского семейства[6].
Следующим важным свидетельством в пользу этой версии является то, что брак между Адамом Швальбе и Анной Гавриловой был заключен спустя год после рождения Ореста и «поручителем» у обоих был их помещик Дьяконов.
Но все эти факты носят косвенный характер. Их при желании можно перетолковать, чем и занимается Евгения Петрова в уже упоминавшейся монографии. В самом деле, какие-то неизвестные нам причины могли помешать Швальбе «вовремя» жениться на Анне Гавриловой, и помещик, у которого он, видимо, был управляющим, по доброте душевной ему с этим помог.
Что ж, возможно и такое толкование. Но мне представляется, что при существующих по этому поводу документах спор, кто был реальным отцом Ореста Кипренского, достаточно бессмыслен. Фактов тут явственно недостает.
А что, если и сам художник не все знал о своем рождении и создавал уже в детстве какую-то «личностную легенду», миф о своем происхождении, который, утаенный ото всех, прошел через всю его жизнь, окрасил собой многие его житейские и творческие поступки?
Не интереснее ли и не плодотворнее вглядеться в этот личный миф? Миф, который позволял маленькому Оресту не только не стыдиться своего «незаконного» происхождения, но всю жизнь быть человеком необычайно гордым и замкнуто-независимым?
Судя по всему, особенно интересовала, занимала и вдохновляла Ореста Кипренского личность его действительного или мнимого отца Адама Швальбе. По сути, мы о нем ничего не знаем. Но как этот лютеранин, немец, грамотный, судя по составленному им прошению в Академию художеств, человек, оказался крепостным русского помещика? Что за тайны были в его жизни?
Видимо, эти «жгучие тайны», как выразился бы Стефан Цвейг, занимали и Ореста с детства и до конца его дней. Недаром совершенно необъяснимый творческий рывок произошел с ним, когда он обратился к образу Адама Швальбе, написав в 1804 году его портрет. С портрета он потом сделал авторскую копию и всюду возил ее с собой (ГРМ, копия – ГТГ). Авторские копии он сделает еще лишь дважды – с портрета Авдулиной и Шишмарева. Между прочим, учился он, как позднее и Карл Брюллов, на отделении исторической живописи у Дуайена и Угрюмова. А рывок, определивший всю его последующую творческую судьбу, произошел в портрете. Дмитрий Сарабьянов отказался от объяснений феномена этого портрета: «И пусть он останется загадкой в загадочной биографии Кипренского»[7].
И все же хотелось бы хоть что-то в появлении этого портрета-откровения понять. Мне представляется, что портрет как раз и стал творческой фиксацией авторского «мифа о Швальбе», а одновременно и развитием какого-то собственного личностного мифа.
Кипренский всю жизнь развивал те «мистификации», которые были намечены самим Швальбе в его прошении в Академию художеств, написанном 8 мая 1788 года. Интересно то, что Швальбе безошибочно определил творческий вектор мальчика, направив его учиться живописи. Конечно, он был крепостным, и решение практически мог осуществить только Дьяконов, послав Ореста в Петербург.
После смерти Кипренского его сестра Анна и родственники Дьяконова писали в документах, что именно Дьяконов определил его, а затем и его брата Александра Швальбе в Академю художеств[8].
Но ведь только Швальбе, живя вблизи Ореста, мог заметить его склонность к живописи и сказать о ней Дьяконову. Он собственноручно написал прошение (а за Анну Швальбе, неграмотную сестру художника, прошение в будущем будет писать родственник Дьяконова). Дьяконова в жизни Кипренского словно и нет, а Швальбе еще как присутствует!
Итак, какие же «мистификации» позволил себе Швальбе?
Он назвал Ореста законнорожденным[9], что существенно облегчило его судьбу и не уязвляло гордую натуру художника. Еще более существенно то, что он назвал его Кипрейским (фамилия, которая будет в Академии художеств преобразована в Кипренского). А также на год уменьшил его возраст. Обе эти «мистификации» прочно вошли в личный миф самого художника. Что касается фамилии, то после смерти Кипренского президент Академии художеств Алексей Оленин в одном из официальных писем будет недоумевать по ее поводу: «В обоих сих документах (в прошении отца и свидетельстве священника, в котором, кстати сказать, тот засвидетельствовал неверную информацию об Оресте. – В. Ч.) ничего не упомянуто о фамилии Швальбе, хотя достоверно известно, что отец Кипренского имел это прозвание»[10].
В самом деле, раз уж Швальбе назвал Кипренского законнорожденным, а священник Петр Васильев это подтвердил, то он вполне мог бы дать Оресту свою фамилию. Но была названа совершенно другая, явно выдуманная фамилия, которая сразу и навсегда отделила Ореста от всех прочих детей Швальбе (трех сестер и брата) и вкупе с именем античного героя намекала на какую-то таинственную связь с древнегреческой богиней любви, часто именуемой Кипридой. Тут можно вспомнить, что и Александр Герцен, незаконный сын помещика Ивана Яковлева, получил свою фамилию от немецкого «сердца» (Herz). Может быть, на смене фамилии настаивал бригадир Дьяконов, даровавший мальчику свободу, о чем есть его свидетельство? (Единственный правдивый документ из трех, представленных в Академию художеств.) И тогда снова возникает мысль о его отцовстве.
Так или иначе, Кипренский будет твердить приятелям-художникам, что у него из родных никого нет – в точном соответствии с намеченной Швальбе его «отдельностью». И в то же время исправно посылать пенсион сестре Анне Швальбе, которая после его смерти даже предъявит право на наследство. Интересно, что архитектор Ефимов после смерти Кипренского писал из Рима В. И. Григоровичу: «…он не только не упоминал никогда о своей сестре, но еще говорил, что он не имеет никаких ближайших родственников»[11].
По примеру Адама Карловича (или Карповича, как тот называет себя в прошении) Швальбе Кипренский изменит фамилию своего подлинного или мнимого отца, назвав его в католическом брачном свидетельстве Адамом Копорским[12]. Это «переименование» тоже указывает на некий миф, который роился в голове художника в отношении Швальбе. Он видит его не крепостным крестьянином, а родовитым господином, давшим имя своим владениям – Копорью. К этому мифу мы еще вернемся, а сейчас о тех мифах, которые породило в жизни Кипренского уменьшение в прошении его возраста. Там оно, очевидно, было связано с желанием скрыть факт незаконнорожденности и боязнью, что мальчик не пройдет в Воспитательное училище при Академии художеств по возрасту.
Но Кипренский, судя во всему, воспринял это как некое руководство к действию. Он так и будет впоследствии скрывать или сильно преуменьшать свой возраст. Даже на его могильной плите возраст указан с ошибкой на пять лет. А в документе о принятии католичества Кипренский преуменьшил свой возраст на целых восемь лет[13].
Итак, мифы, которые создал Адам Швальбе, нашли творческое продолжение в личном мифе Ореста Кипренского. И особенную роль в этом мифе, как мне представляется, играет фигура самого Швальбе, редкостно загадочная даже для нас. Очевидно, что и для Кипренского она таила неразрешимые загадки. Каким образом лютеранин с немецкой фамилией стал крепостным русского помещика? Видимо, Кипренский, попавший в Академию художеств шестилетним ребенком и редко отпускаемый начальством на свою мызу Нежинскую в далекое Копорье, задавался вопросами о судьбе рано умершего Адама Швальбе (годы его жизни предположительно 1742–1807). Фантазировал и сочинял его и свою историю.
Есть общеевропейский бродячий сюжет о подброшенных в простую семью царских детях. Так, младенец Парис, сын царственных родителей, по причине «дурного сна» матери был оставлен в лесу на горе. Его вскормила медведица, а воспитали пастухи.
Орест Кипренский, судя по всему, с детства ощущал себя таким неузнанным царским сыном, принцем инкогнито. Но и крепостного «дворового человека» помещика Дьяконова – Адама Швальбе – он видел каким-то королем в изгнании.
И вот теперь самое время вернуться к поворотному произведению молодого художника, определившему его судьбу портретиста, – «Портрету Швальбе» (1804, повтор – 1828). Этот портрет не только пластическое откровение, но и какое-то внезапное откровение о самом Швальбе. Ему в это время шестьдесят два года. Автор словно бы проговаривается о том, что бродит в его мыслях.
Художник пишет его, используя как образец рембрандтовский портрет, который тогда считался портретом польского короля Яна Собеского. Сейчас он называется «Портретом польского дворянина». Тогда он находился в Эрмитаже, а сейчас в Вашингтонской национальной галерее[14].
Швальбе изображен, как и рембрандтовский герой, в медвежьей шубе и с палкой-жезлом в руке. Но костюм короля богаче благодаря меховой шапке с золотым украшением и золотой цепи с подвеской на шубе. Персонаж Рембрандта могуч, горделив и яростен. В его ухе поблескивает жемчужная серьга – свидетельство некоторой авантюрности характера. А вызолоченный на рукоятке жезл – знак власти и силы.
Шуба Швальбе попроще, но тоже явно не крестьянского вида. И само его высветленное лицо, с непокрытыми полуседыми волосами и каким-то вопрошающим взглядом, выдает глубоко скрытую драму, внутреннюю бурю, которая подчеркивается крепко сжимающей палку ладонью, сжатой в кулак. Швальбе – скрывающийся король, переживший какие-то сильные потрясения, но сохранивший ту чистоту и детскость, которые Кипренский будет всю жизнь ценить.
Интересно, что уже в этом юношеском портрете Кипренский выйдет на тот уровень оригинального «стилизаторства», когда чужое претворяется в свое и помогает выразить затаенные чувства и мысли. Он по-своему видоизменяет живописную и смысловую «партитуру» рембрандтовского портрета, что будут делать художники уже иного времени, конца XIX и начала XX века: Эдуард Мане, Пабло Пикассо, Сальвадор Дали, Валентин Серов, Константин Сомов и многие другие. Его рывок в сторону портрета и блестящий результат в самом начале представлялись столь удивительными, что один из первых его биографов, Владимир Толбин, сделает его учеником известного портретиста Левицкого[15].
Мифологизация личности Швальбе давала почву для создания собственного мифа. Кипренский всю жизнь будет неким «звездным мальчиком», неизвестно как залетевшим в чужую ему среду. Все это вызовет в будущем злобные толки о какой-то немыслимой его гордыне. «Самолюбию Кипренского не было меры», – писал один из его недоброжелателей Федор Иордан[16]. Определит его отношения с собратьями-художниками и с сильными мира. Он ведет себя и с королями как равный.
Известен такой эпизод из жизни Кипренского в Италии. Однажды баварский король, не застав художника дома, оставил записку, подписав ее своим именем. Кипренский, в свою очередь, не застав короля дома, подписал записку фразой «Король живописцев».
Но еще до того, как он стал живописцем, чувство необычности его судьбы и происхождения прочно в нем укоренилось. Но он, как и Швальбе, хранил свою тайну…
Глава 2.На просторах мызы Нежинской
Ореста отпускали туда из академии очень редко. И все же, кажется, он ощущал эти места родными. Недаром впоследствии он напишет портреты не только своего соседа по Копорью, живущего в поместье Котлы К. И. Альбрехта, но и весь «куст» его родственников – его деверя (мужа сестры жены) М. В. Шишмарева, сестру жены Е. С. Авдулину и прочих. Причем с портретов Шишмарева и Авдулиной он сделает авторские копии, как сделал еще только с портрета Адама Швальбе. А Альбрехт изображен на фоне речного пейзажа, напоминающего художнику о Копорье.
Можно сказать, что ему повезло, что родился он «на природе». Для художника-романтика это было особенно важно, и «природные» штрихи и детали, а также общее «космически-природное» ощущение мира прочно войдут в его портреты. А в альбоме 1807 года есть несколько простых рисунков сельской жизни – вид из распахнутого окна, незамысловатый крестьянский двор…
Однажды, приехав на каникулы, он шепнул сестрице Анне, что он вовсе не крестьянин и не отсюда… Анна тут же поверила и ходила за ним по пятам, глядя с восхищением. Он и в самом деле очень отличался от них всех. Он был темноволосый, курчавый, легкий и белозубый. А они все русые и поплотнее сложением. Словно и вправду королевич из незнаемых земель. (Замечу от себя, что такого рода детские фантазии достаточно распространены. Их можно встретить, к примеру, еще у одного блистательного художника уже XX века – Кузьмы Петрова-Водкина, родившегося в простой семье волжского грузчика в городе Хвалынске. Вот он в детстве признается другу Вове: «…ты должен знать, что я не тот, за кого ты меня считаешь, – я только укрыт, усыновлен в Хлыновске… Моя родина далеко отсюда»[17]. Если уж у маленького Кузьмы были такие фантазии, то у мальчика Ореста было для них гораздо больше оснований.)
Находясь на мызе Нежинской в 1807 году, вероятно, в связи со смертью Адама Швальбе, юноша Орест напишет в альбоме: «Отцу и матери Азъ по греху принесен за то, что не соглашалась бедная невеста-рабыня с ними с барами»[18]. Фраза довольно туманная. В голове у юноши мысли о «грехе» родителей, о каких-то спорах матери-крепостной «с барами». И идущее из детства чувство, что он вообще другой и не отсюда.
Из всех Швальбе, кроме Адама Карловича, он выделял сестрицу Анну, недаром он будет ей потом материально помогать и горячо рекомендовать своему приятелю Александру Бакунину. Ему нравилось, что она так им восхищается, верит всем его словам.
Во время своих приездов в Нежинскую он рисует почти все семейство, кроме матери, умершей в 1799 году в возрасте тридцати семи лет.
Вот немного туповатая, с опущенными глазами и прилизанными волосами физиономия младшего брата Александра (графический «Портрет юноши», Александр Швальбе, ок. 1807). Разве он может быть его братом? (Этот брат потом тоже будет учиться в Академии художеств на архитектора, но затем поступит на военную службу и погибнет не то в финско-шведской, не то во французской кампании.)
А вот и сестра Вера (рисунок «Девушка за чаепитием», ок. 1807). Ей в это время девятнадцать лет. Возможно, что ее же строгое лицо изображено еще на одном рисунке в альбоме 1807 года. Книги, серьезность – это, конечно, очень хорошо. Он сам кое-что прочел из классических авторов – Сенеку, Горация, Иосифа Флавия… Но самое для него сладкое – предаваться мечтам, вовсе не крестьянская способность воспарять. Сестрица Анна нравилась ему своим мечтательным видом (а грамотой так и не овладела!).
Он рисует карандашом чистый девичий полупрофиль, распущенная коса падает на плечо, глаза опущены («Портрет сестры. Анна Швальбе», ок. 1807). Весь облик нежен и естествен, овеян поэзией, к которой Орест столь восприимчив. Нет, недаром он выделил ее из всех родных! Но душевно они далеки. Среди своих родных он вообще одинок, другой. Он покровительствует Анне как приезжий принц, для сохранения тайны наряженный в простое платье. Этот инстинкт покровительства сохранится у него и в отношениях с приятелями-художниками. И даже жену он себе выберет такую, которой он долгие годы может покровительствовать, чтобы затем из Золушки превратить в принцессу.
Приезжая в Копорье, а потом и в другую сельскую местность – в поместья своих приятелей, Орест все время вглядывается в лица крестьян. Но не взрослых – они ему совершенно не интересны, а детей. И тут он как бы становится одним из провозвестников русского романтизма, подхватившего общеевропейский интерес к детству. В XVII веке строгий и разумный Бенедикт Спиноза в своей «Этике» считал детей сумасшедшими. А в XIX веке Генрих Гейне писал, что «чем более растет тело, тем больше скукоживается душа». Думаю, что Кипренскому это высказывание было близко.
С этих пор дети станут душевным камертоном его живописи, а взрослые будут ему тем более интересны, чем менее «скукожились» их души, чем больше в них проглядывает ребенок. Поэтому он, как это ни парадоксально, не будет избегать портретов пожилых людей, как избегал их, в особенности «старушек», другой гений романтической эпохи – Карл Брюллов. Для Кипренского важно найти этот детский огонь в своем персонаже. И если он погас, портрет будет беспощаден, о чем нам еще предстоит писать.
Головки крестьянских детей возникают и в его альбоме 1807 года, и среди рисунков 1814-го. Кипренский, который рано стал видеть в лицах людей все душевные извивы, словно бы отдыхает на лицах этих детей, отыскивая в их мимике, позах, жестах романтический идеал почти античной простоты и естественности.
Вот удивленный, с невероятно теплым и живым взглядом профиль белоголового мальчишки, набросанный в альбоме 1807 года (ГРМ). А вот целых три разных характера в портретных рисунках детей 1814 года (ГРМ). Валерий Турчин пишет об интересе молодого Ореста к человеческим темпераментам, изучении их «знаков»[19].
Каждый из этих мальчиков знаменует собой какое-то свое душевное состояние. «Петрушка-меланхолик» (1814) изображен в профиль. И его фигура с короткой стрижкой под горшок, и неподвижно устремленный вперед взгляд как бы говорят, что этот мальчик весь в себе и на внешний мир не реагирует. В «Портрете мальчика Моськи» (1814) на лице у персонажа со вздернутым носом и палкой в руках застыло какое-то язвительное выражение, почти гримаса. На рисунке 1807 года «меланхолия» уже просто искажает черты заросшего буйными волосами мальчишки, угрюмого, печального, несчастного (ГРМ).
Видимо, задатки подобной «меланхолии» Орест находил и у себя. И старался с нею бороться. Этот светлый, удивленный, полный живого интереса к миру взгляд он ловил не только у белоголового мальчика в наброске из альбома 1807 года, но и в «Портрете мальчика Андрюшки» (1814, ГРМ). Подобного рода живой и удивленный взгляд будет впоследствии характерен и для некоторых вполне взрослых персонажей художника, например для Екатерины Ростопчиной, дамы вовсе не юной.
Интересно, что уже в этих набросках намечена та дихотомия радостного ожидания и мрачных предчувствий, которые, судя по всему, составляли некую сердцевину натуры самого художника (ср. расхожее заявление романтиков: «Во мне два человека», характерное и для поэзии Лермонтова, и для мира Константина Батюшкова). К этой дихотомии Кипренский вернулся в 1829 году, написав «Неаполитанских мальчиков» с противоположностью их душевных состояний (Неаполь, палаццо Реале). Замечу, что сам Кипренский все же старался, и, как кажется, не без успеха, культивировать в себе не меланхолию, а нечто ей противоположное, жизнестойкое и бодрое. Но к этому я еще вернусь.


