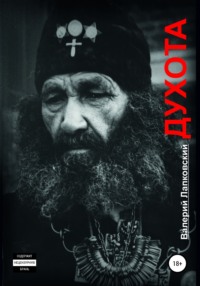полная версия
полная версияВраги креста
Говорят, что в гражданскую войну русское духовенство сражалось с тьмой большевицкой нечисти в «Полку Пресвятой Богородицы».
Сказывают, будто Сталин сквозь пальцы смотрел на то, как во время битвы с Гитлером уцелевшие непонятно по какой причине православные попы (только в 1919 году их уничтожили 320 тысяч ‒ «Комсомольская правда», 12 сентября 1929 года) совершили крестный ход с иконой Богоматери вокруг осажденного Ленинграда, Москвы, Сталинграда. Немцы не взяли эти города, разумеется, не благодаря Заступнице Усердной, а исключительно потому, что их отстоял полководческий гений Иосифа Виссарионовича, которому Германия неоднократно устраивала «Сталинград», окружая и беря в плен десятки дивизий советских бойцов, подавляя такие героические операции как керченско-феодосийский десант.
В канун праздника Введения Пресвятой Богородицы во храм, Церковь впервые поет «Христос рождается…» И это понятно. Ведь Входящая ныне в храм юница ‒ будущая Родительница Бога нашего, Взбранная Воевода: Победительница, рождшая от Духа Свята Господа нашего Иисуса Христа ‒ Победителя смерти!
Она заслоняет рабов Своих в здешней жизни и, встречая каждого после смерти, ведет брань за них с духами злобы поднебесной.
Пресвятая Богородице, спаси нас! Аминь.
Маяковский застрелился так
«Лучше самая иссохшая материнская
грудь, чем тот ад, который у
взрослых называется жизнью».
Л.Шестов, «Великие кануны».
Как-то весной П. Лавут выступал перед студентами ЛГУ. Докладчик был неплохо экипирован: привез кинопленку «Барышня и хулиган», цитаты, самоуважение… Подозревая, что аудитория не успела еще в школе вызубрить вирши Маяковского, экс-импресарио зашелестел стоптанным голосом стихи о смерти «агитатора и главаря»; какой-то верзила не выдержал, поднялся с места, громко, угрюмо брякнул: «Маяковский застрелился потому, что рядом с ним были такие, как Вы», ‒ и потопал в подкованных ботинках к двери. Первокурсники заволновались, замоторелые бабушки, приковылявшие на встречу, стали сочувственно вздыхать, забыв, что в свое время вежливо кусали «вдохновенного громилу».
Почтительно ссылаясь на педагогическую ложь, я довожу до сведения всех «не понимающих» Маяковского, что великий поэт пал от руки современной культуры.
Краткий психоанализ жизни и творчества этого «большевика искусства» вскрывает конфликт между человеком «от мяса бешеным», который сам «себя смирял, становясь на горло собственной песне», и обществом – «рукой миллионопалой, сжатой в один громящий кулак».
…Я рассматриваю интровертированную экзистенцию Маяковского, как органически целое, сцементированное сексуально-агрессивным инстинктом и разъеденное моралином. («Это хитрая тема. Нырнет под событие в тайниках инстинктов, готовясь к прыжку…»).
Я не ставлю точного диагноза недуга; ограничиваюсь констатацией невроза, указываю на отчаянную схватку между «Я» и «ОНО» в душе «героя и жертвы революции». Определить клинически, чем именно страдал «ассенизатор и водовоз» ‒ удел лейб-медиков, которые, вероятно, знали и знают истинную пружину этого банального самоубийства, но лицемерно прячут концы в воду, деля лавры скромности с литературоведами, писателями и философами107.
…Истоки трагедии Маяковского лежат в раннем детстве.
Каждый ребенок к четырем-шести годам психосексуально сформирован и в будущем только шлифует либо невроз, либо норму. Под нормой подразумевается порабощение принципа удовольствия принципом реальности, умение индивидуума присосаться к действительности. Нынешний потомок обезьяны в своем «культурном развитии» наверстывает (в чрезвычайно концентрированной форме) крестный путь, который отмахало человечество за несколько тысячелетий. Ребенком любой из нас ощущает напор свежих, сильных желаний «из древнейшей древности, где самку клыком добывали люди еще…»; под кнутом воспитания они воспринимаются нами в процессе врастания в социальный организм, как низменные поползновения, удручающе принижающие, якобы, нашу личностную ценность в рамках здравого конформизма.
Плацдарм инфантильной агрессивности и эгоизма – либидо, половое влечение, психическая энергия ребенка. Первый бессознательный выбор секс-объекта: отец и мать.
Бултыхнулись в лету слащавые иллюзии хотя бы того же Льва Толстого о стерильной чистоте духа и плоти детей. Права оказалась христианская церковь, догматически утверждающая изначальную греховность каждого человека, независимо от того, сколько лет или дней он прожил на земле до наступления «весны небытия».
Чадо сексуально извращено, автоэротично. Оно удовлетворяет магистральные потребности при помощи эрогенных зон (главные из них: анальная, оральная, уретральная, носовая – выстланы слизистой оболочкой, как шоколадная конфета бумажкой из фольги).
Стало трафаретом то, что отпрыск млеет от секс-наслаждения, когда сосет грудь матери, ковыряет в носу или сидит на горшочке. Судя по тому, например, как много Маяковский курил, нетрудно догадаться, что в детстве он вовсю эксплуатировал свой рот. («Нам остается от старого мира только папиросы «Ира»).
Ребенок любит лишь самого себя, ему совершенно неведома идиосинкразия общественности (чувство долга, вины, взаимовыручки). Он орет со слезами, если запрещают держать палец во рту, подглядывать как мочится сестра, обижать сверстников.
Отношение мальчика к отцу (девочки к матер)/ амбивалентно, дуалистично.
«Больше чем можно
Больше чем надо –
Будто
Поэтовым бредом во сне навис –
Комок сердечный разросся громадой:
Громада любовь;
Громада ненависть».
Диалектика секса заставляет чтить отца, как высокий идеал, как сверх-я, каким сын мечтает быть, и одновременно вынуждает ненавидеть папашу, в глубине души желать ему смерти за то, что взрослый соперник мешает мальчику утонуть в неге инцеста – завладеть матерью, «сделать ее своей женой» (по признанию, например, малолетнего Ж.-П.Сартра). Наследник боится, что грозный глава семьи кастрирует его. Пенис – предмет биологического чванства, расового превосходства, одного пола над другим. Смутно светит надежда на coitus с матерью.
Под укрощающим натиском «культурной среды» первобытные инстинкты не уничтожаются и не капитулируют, а эластично отступают в область вытесненного, забытого, бессознательного (оно). Человек в коротких штанишках начинает сознавать себя как «Я»; насупившись букой, вкушает азы цивильной нивелировки. Он дисквалифицируется в социально полезную единицу, в дрессированное стадное животное. Это животное, впрочем, показывает зубы, когда изгнанные цензурой воспитания, ходячего образования, нравственности распивочно и на вынос, ‒ сексуально-агрессивные стремления рвутся наружу.
Если варварский потенциал двуного существа не сломлен в пеленках, попадая в людской муравейник, где мыслят и двигаются по расписанию, такое созданьице гибнет физически или психически.
Сей же вариант ожидает того, кто еще в детстве задавлен преувеличенно строгой ролью матери или отца, освобождение из-под которой (которого) ‒ стержень всей жизни.
В половом аспекте «мыслящий тростник» созревает на юге раньше, чем на севере. Владимир Маяковский родился в горячей Грузии. Он был самым младшим ребенком в семье. Смерть брата избавила его от лишнего конкурента по отношению к матери («Я люблю смотреть как умирают дети»). Малыш рос под скурпулезно заботливой опекой Александры Алексеевны и сестёр, которые питали к нему симпатию уже потому, что были старше. Мать Маяковского – это «огромная воля и выдержка», домашняя работяга.
Отец – натура вспыльчивая, неуравновешенная; служил лесничим; ремесло опасное.
Интеллект развивается параллельно либидо. С четырех лет Володя полюбил книги. Ему нравилось, когда мать читала ему сказки и стихи. Она выучила сына азбуке; два-три стиха будущий поэт навязал на память. Одно из них принадлежит А. Майкову:
«Был суров король дон Педро,
Трепетал его народ,
А придворные дрожали,
Только усом поведет…»
Если подвергнуть дешифровке, почему больше всего «кроха» декламировал именно эти строчки, станет ясно, насколько «будетлянин» боялся Владимира Константиновича, своего отца, носившего черную бороду и усы.
Инфантильная страсть к подглядыванию, к выявлению топографии материнских половых органов исподволь вылилась у мальчика в оригинальную манеру горланить стихи, нырнув в полость больших кувшинов для вина. Десанты в пустые чури бессознательно имитировали coitus, а вокальная чеканка «Был суров король дон Педро»… ‒ издевку над отцом.
Разрушению авторитета отца, которое затем привело к поверхностному атеизму, способствовало празднование «рождение Володи и отца в один день». Можно представить, как волновался долговязый мальчуган: «В доме пекли пироги, обсуждали, как лучше убрать юбилейный стол, кого пригласить». Возникновение радостных хлопот, которые в основном возникали из-за даты отца, носившего черную бороду и усы.
Благоприятный климат для расцвета комплекса Эдипа и в том, что в семье часто не хватало отца, «ему пришлось одному жить в лесничестве».
Желание смерти папаши («А мы не Корнеля с Расином, отца родного обольем керосином…») нашло себе осуждение в мистическом страхе поэта перед всеми колющими вещами после того, как Владимир Константинович, проколов палец шилом, отправился, от заражения крови, в лучший мир. Рычаг более поздней «преступности» Маяковского – в неприязни к покойному. Летальный исход главы семьи – важнейшее событие в жизни сына. Как сухо, как телеграфно, как посторонний говорит он об этом драматическом факте в «Автобиографии» – «Распоряжался на похоронах, обо всем хлопотал, не растерялся, сразу почувствовал себя мужчиной…».
Вскоре почил в Бозе брат отца – Михаил Константинович, и мать веско сказала любимому Володе: «Теперь ты наследник фамилии Маяковских».
Наследник был заласкан в детстве. Отсюда: сверхчувственность, капризность Маяковского из-за «черствых булок вчерашней ласки», получаемых им от женщин, с которыми он пытался впоследствии сойтись. Ни одна из них не виновата.
Наш пострел свысока подчас относился к сестрам, возможно подозревая, их в какой-то неполноценности, в «кастрации». Одной из сестер брат заявил, что ему нравится маяк, он-де жалеет, что не посмотрел на сестру с вершины маяка. Он щеголял в матроске.
Ему льстило, когда школьные товарищи звали его сокращенно «Володя Маяк». Он сочинил книжечку «Про моря и про маяк».
Маяк внешне похож на фаллос108.
Психическое не всегда есть сознательное.
При жизни отца Володя получал четверки по закону Божию, хотя и тогда на уроках дерзил попу. Ранняя смерть папаши развязала отроку язык и руки, обернулась еще в гимназии карикатурами на учителей, контактом с революционерами. С однокурсниками ему скучно. В 12 лет интересуется политикой, а несколько позже почитывает Энгельса, очевидно, многое не понимая. Во всем этом сквозит тенденция стать взрослым, заменить отца, причаститься к власти, которой лесничий владел в семье, не случайно партийная кличка юноши – отчество отца – «товарищ Константин».
В 1907 году штурмует вскользь «темного Гегеля», а в 1909 году тяготеет к полифоническим романам Достоевского, где свирепствуют отцеубийство, разврат, «духовная поножовщина», «покаяния двери отверзи ми», комплексы Наполеона, розовый гуманизм. Напористость, энергичность с уклоном в садизм почерпнута Маяковским у Ницше, которого он ценил наряду с Достоевским, величая себе то «крикогубым Заратустрой», то «Раскольниковым». Сравните строки из «Флейты-позвоночника»: «Я душу над пропастью протянул канатом, жонглируя словами, закачался над ней…» ‒ и сцену из «Так говорил Заратустра» ярмарки, над которой разбивается канатный плясун. Заратустра – канат к сверхчеловеку.
«Пощечина общественному вкусу» выдержана в сугубо вульгарно-ницшеанском тоне. Любимчик Маяковского «Витя Хлебников» завел в «зоопарке» моржа с «усами Ницше».
При составлении протокола в полицейской части четырнадцатилетний дворянин плоско каламбурит («части», «отчасти»). Каламбур позаимствован из книги Достоевского.
Уже тогда, в 1908 году при первом аресте от следователя не ускользнула предрасположенность революционера к неврозу. Маяковский был освидетельствован психиатром, который пока счел, что «в психиатрическом отношении все в порядке». В 1909 году в заявлении на имя московского градоначальника Маяковский сам констатирует появление у него «неврастении». В дальнейшем боязнь сойти с ума щедро просвечивает в его творчестве («Пришла в голову отчаяньем завесила мысль о сумасшедших домах», «на мне ж с ума сошла анатомия», «Да здравствует снова мое сумасшествие», «Я обвенчаюсь с моим безумием», «уже наполовину сумасшедший», «в кровавом поте тело безумием качало» и т.д. и т.п.).
То, что Фрейд обозначил инстинктом смерти, влечением в неорганику, также в изобилии рассыпано в стихах «полпреда» («А сердце рвется к выстрелу, а горло бредит бритвою…», «Я бегал от зова разинутых окон», «обнимет мне шею колесо паровоза», «с бескрайним бинтом исцеляющей смерти», «он здесь застрелился у двери любимой»…).
Воля к власти, стремление высвободиться из-под привязанности к матери утверждают себя в ниспровержении «парфюмерной» литературы Блока, Брюсова, Бальмонта и иже с ними («поэты не хорошенькие бабочки,… а завоеватели, имеющие силу диктовать вам свою волю»).
Душа футуриста – демонизм нахрапом, Девиз подполья: «Берите в руки нож или бомбу».
Художник часто прежде всего человек, начхавший на действительность; он презирает гнуть выю перед отреченностью от дионисического разгула: под ручку с эротикой и честолюбием шляется в садах необузданной фантазии, напевая похотливые песни.
Вспомните вычурный наряд «площадного сутенера»: желтая кофта (смокинг футуризма) и пышный бант. Либидо прет через проволочные заграждения цензуры и моды (в моде высокая застежка и куцый галстук – «кастрат»). «Самое заметное и красивое в человеке – галстук, ‒ писал Маяковский. Бант – супер-галстук, символ самца».
В стихах первого периода – гниль нигилизма, искушение «в баре… подавать блядям ананасовую воду», жажда загореться в душе убийц и анархистов… кровавым видением». Предвосхищая рецепты Освенцима, циник цедит:
«Вместо нищих – всех миров богатство
Прикарманьте,
Стар убивать. На пепельницы
Черепа».
Жестокость – подоплека раздраженного секса, не находившего адекватной реализации.
Психиатры были озадачены оригинальностью музы Маяковского и полагали, что самая подходящая трибуна для желтого фата – желтый дом. Они пригласили глашатая свободы на консилиум. После интимной встречи с врачами «сердце сумасшедшее» разразилось «гимном здоровью»:
«Голодным самкам накормим желанья
Поросшие шерстью красавцы – самцы…»
Та же разухабистость – бравая мелодия и в других шедеврах:
«Теперь клянусь своей языческою силой
Дайте любую красивую, юную.
Души не растрачу, изнасилую,
И в сердце насмешку плюну ей».
Или:
«Идет она, она юна
Хорошенькая (за косу)
Обкрутим без загсу»
Ситуация Эдипа чётко выражена в отношении к Богу, образ которого бессознательно отождествляется с отцом в качестве сверх-я. Бог Маяковского – это Владимир Константинович, ревниво стерегущий Бородицу – Александру Алексеевну.
«Он – Бог
А кричит о жестокой расплате,
А в ваших душонках поношенный вздошек
Бросьте его
Идите и гладьте –
Гладьте сухих и чёрных кошек».
Женщины – кошки.
К Богу:
«Делай, что хочешь, хоть четвертуй,
Я сам тебе, праведный, руки вымою
Только, слышишь, убери проклятую ту, которую
Сделал моей любимою».
Заслуживает внимания любопытный параллелизм: «Несколько слов о моей жене» ‒ «Несколько слов о моей маме», «Несколько слов обо мне самом».
«Калека в любовном боленье» непрочь задобрить тень умершего – предлагает Богу натаскать на небеса с бульвара девочек. Но Ветхий деньми суров и тогда, потеряв претензию на Марию «рыкающий парнасец» «достает из-за голенища сапожный ножик». Бунтует, но как? Какими словами? В пределах набожной филологии, в ярости, которая не выплескивается за ограду библеизмов, семафорящих о воле «Всесильного Божика», земного отца. «Гремят на мне наручники любви тысячелетия…»
Невротики – изобретатели новых слов.
Новатор, брюхатый неологизмами, искупал «криворотый мятеж» словесной архаикой. «Новаторство дилетантов – паровоз на курьих ножках».
В конце концов сын выбрасывает белый флаг, признавая, что лозунгом «долой… религию» он «пальцем попал в небо…»: «Все вы люди бубенцы на колпаке у Бога».
«Встрясывают революции царств тельца,
Меняет погонщиков человеческий табун,
Но тебя некоронованного сердец владельца
Ни один не трогает бунт».
Кустарь-атеист Маяковский стал всерьез интересоваться учением мистика Федорова, перед которым преклонялись Бердяев и Булгаков. – Страсть, которая к реальной матери была бы наказуема, может без всяких нареканий и укоров совести стать пламенной любовью к родине, к земле: «Вся земля поляжет женщиной, заерзает мясами хотя отдаться…»
«Я прижмусь моим мясом к земле, чтоб ее мясо обновило меня» ‒ этим переводом Маяковский ошарашил как-то К. Чуковского: «В подлиннике действительно было сказано «мясо». Не зная английского подлинника, Маяковский угадывал его безошибочно, и говорил о нем с такой твердой уверенностью, словно сам был автором этих стихов».
Импульс бессознательного выверен инстинктом. У невротика «может быть отец, по крайней мере, миром, землей по крайней мере, мать».
В поэме «Человек», проснувшись после миллионнолетней спячки, Маяковский тоскует по земле, валяясь в Царстве Небесном. Созерцая землю, сынок сталкивается с тугоухим папашей, который его «раздражает, Тоже уставился на землю».
Инцестуозность есть и в поэме «Война и мир»… Офицер, погибая, кричит: «Мама, мА…» В последнюю минуту мужчина зовет мать – первый объект секс-влечений, эрос, жизнь, ту, которая всегда его убаюкивала, и которая еще и сейчас должна спасти свое чадо, поручика, у которого клумбой разворочено чрево от крупнокалиберного осколка. Когда вспыхнула война, Маяковский норовил в добровольцы на фронт. Искал исподтишка смерти? Он чувствовал себя преступником: «Я один виноват в растущем хрусте ломаемых жизней». Он бьет себя в перси, упав на колени в храме гуманизма: «Дорогие, Христа ради, ради Христа простите меня». «Кровью истеку, но выем имя «убийца», выклейменное на человеке».
А на вечере имажинистов в 1920 году провоцирует очередной скандал, зачав его репликой о том, как «дети убили распутную мать».
Свою же мать поэт снабжал деньгами, обращался к ней на «Вы», просил «дорогую мамочку» приходить на его сногсшибательные выступления, писал ей стихи, почти не адресуясь к отцу.
Взывает к обозрению и знаменитая «троица»: «Лиля, Ося и Володя», «бесплатное приложение к двуспальной кровати». Лиле Маяковский в первую же встречу показался «…неврастеником». Лиля Брик для Маяковского – «сублимированная» мать, Ося Брик – в роли «отца».
Эдиповский «конфликт» поколений толкнул лидера футуристов в революцию.
Правда, кое-кто не мог уяснить, как уживется он, этот люмпен-пролетариат, неврастенический, недисциплинированный, презирающий всякую норму… ненавидящий труд и пр., пр. – с революцией, которая прежде всего труд, дисциплина…»
Раньше бард с замашками Нерона высмеивал вдрызг писателей, промышляющих на дачу у реки, а теперь подрядился в апологеты коммунальной чистоты, уюта на новый лад.
Чувствуя, впрочем, родство, близость к неунывающим головорезам, он по-прежнему многих своим творчеством отпугивал.
Ленин, перед которым певец вздыбленной коммуны благоговел, бессознательно идентифицируя его личность с персоной своего отца, относился к метаморфозе «от желтой кофты до красного Лефа», по словам Горького, «недоверчиво и раздраженно», подобрев спустя энный период.
Под маской патриотизма – дифирамбы матери. «Отечество славлю, которое есть, но трижды которое будет», «Веди светло и прямо к работе и к боям, моя большая мама, республика моя».
Время, в которое оказался «вштопорен» «тринадцатый апостол», вынуждало думать о «точке пули», «Спаситель любовь не прийдёт ко мне». «Мама! Ваш сын болен. У него пожар сердца. Скажите сестрам Лиде и Оле, ‒ ему уже некуда деться».
Зигзаги бессознательного в изжоге по известности. «Я» ‒ название первого сборника. «Я и Наполеон», «Наполеон – мопс у меня на цепочке», «Мне наплевать на мраморную слизь», но «мне памятник при жизни полагается по чину», ибо я «великий поэт СССР» (афиша заграничного турне).
Взвинченное самообожание, идеи величия и власти – в восстании против отца, учителей, Бога, царя, литературных мэтров (во главе синдиката футуристов должен быть именно он!) борьба за трон «полпреда стиха», грызня с Горьким; – как образцы, эталоны для подражания. Он – некрасовец, ему нужна чистка современной поэзии.
Стихотворец «щебенчатой Керчи» Г. Шенгели издевался: «Талантливый в 14-ом году, еще интересный в 16-ом году, теперь, в 27-ом, он уже не подает никаких надежд, …повторяет самого себя, уже бессилен создать что-то новое, и способен лишь реагировать на внешние раздражения вроде выпуска выигрышного займа, эпидемии растрат, моссельпромовских заказов на рекламные стихи».
Некоторые люди склонны видеть в рекламировании сосок из Моссельпрома социальную чуткость Владимира Владимировича, его виртуозное умение быть рабсилой «в развороченном бурей быте». Но этот факт лишь застарелый тлеющий зов, тоска детски-тридцатилетних губ по теплой материнской груди («в неба свисшиеся губы воткнули каменные соски», «жалел – у меня нет груди, я кормил бы вас доброй ненькой…»).
«Считаю, «Нигде кроме, как в Моссельпроме» поэзией самой высокой квалификации», ‒ заявил поэт.
Еще бы!
Иные граждане глубокомысленно считают, что Маяковский укокошил себя после того, как завел шашни с популярной французской хворью. Намекают на то, что покойник панически избегал питаться изобщей посуды, как таскал в кармане стакан, наподобие Шопенгауэра, кой изгонял венерического беса из своей гениальной плоти препаратами ртути и возил с собой кожаный бокальчик, чтобы не пить из чужих склянок. Вероятно, сия информация чем-то правдива, конфузиться при сообщении о недуге ниже пояса незачем, ибо коварная болезнь (благословенный подчас стимул к творчеству) настигает избранника не тогда, когда он ее ждет, а когда ей приспичит. В стихах Владимира Владимировича попадаются указания на то, что он действительно побратался с люэсом (Удачное сравнение: «Улица, как провалившийся нос сифилитика», или» «Все эти с провалившимися носами знают: я – ваш поэт»).
Но болел или нет, мучился или запустил сифилис Маяковский – не эта болезнь подставил ему ножку.
Там, где налицо сифилофобия (страх перед венерическими заболеваниями), гнездится страх перед женщиной, под властными ласками который мальчишка вызрел в мужчину. «Тянет инстинктом семейная норка»…
Маяковский, сохранивший мощные инфантильные привязанности, не находил объекта для настоящего удовлетворения. Он защищался от бессознательного влечения к инцесту: «Исчезни дом, родимое место…»; удирал и возвращался.
Нередко психоаналитики подозревают на почве сифилофобии психическую импотенцию. А, впрочем, был ли он так могуч, чтобы внутреннее расправиться с физическим недугом, который причиняет неудобство не столько телесной, сколько моральной болью, душевным изломом, прогнозами на прогрессивный паралич в будущем, и галдежем сплетен, предрассудков в настоящем? Ведь сифилофобия мешала нормальным коммуникациям Маяковского с декоративным полом.
Незаурядный комплекс Эдипа («Струны души. Архаизм»…), мучавший поэта всю жизнь, не обрел субстанциональной сублимации даже в революции, не говоря уже о пиитических открытиях выдающегося скандалиста. Денно и нощно кипели в недрах этой «глыбы» запретные страсти.
«Любовная лодка разбилась о быт», над стабилизацией» которого он усердно трудился.
1967
Вместо послесловия
21 февраля 1971 г.,
Ленинград.
До сих пор, Валерий, я не знаю Вашего отчества, и это затрудняет мое обращение к Вам. Возвращаю Вам Вашу статью о Маяковском, которую прочел с интересом и без всякого возмущения, на которое Вам меня так часто хочется спровоцировать. Вопреки любезным предположениям я все же настолько знаком с наследием Фрейда, его последователей, что без особого труда смог заметить, что Ваш этюд написан в традициях фрейдистского психоанализа в той его ипостаси, которая была особенно распространена в 30-е годы. Вам нельзя отказать в наблюдательности и в хорошем знании биографии и творчества Маяковского. И многое мне показалось любопытным и вполне вероятным. Вместе с тем должен признаться, что личное общение с Маяковским оставило во мне ощущение и воспоминание чего-то более здорового, организованного, привлекательного.