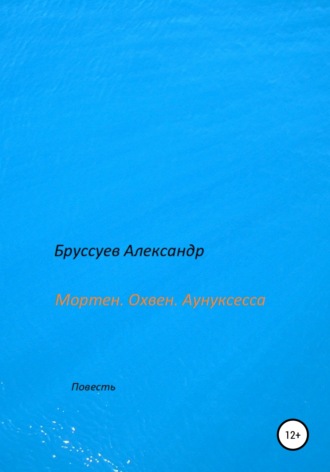
Полная версия
Мортен. Охвен. Аунуксесса
* * *
Олли – скальд, юный, правда, но тем не менее. Он может играть на любых музыкальных инструментах, сам придумывает мелодии, а уж слова в песнях, сложенных им, заставляют удивляться и старых опытных творцов. Сам он хрупкий, болезненно бледный, несмотря на немалый рост, физическая сила не относится к его достоинствам: руки, как ветки, ноги, как палки. При разговоре его лицо очень подвижно, так что становится смешно смотреть, какие гримасы он изображает. Однако характера хватает для оказания должного отпора обидчику, каким бы силачом тот ни был. Словом, скальп. Простите – скальд.
– Приветствую тебя, о, песнопевец, – сказал я, вернее, хотел сказать. Вместо этого губы на начавшем заплывать лице, промычали нечто нечленораздельное. Хорошо, хоть не заблеял.
– Больно, Мортен? Я видел, как этот плевок гоблина тебя избивал. Пойдем-ка отсюда, подобру-поздорову, пока этот урод не очухался.
– Это я его бил. Еще бы пару-тройку моих могучих ударов головой по его кулакам – и я бы победил, отвалились бы у него руки по самые ноги, – я вновь обрел дар разумной речи.
– Пошли ко мне в шалаш, тут на берегу у пирса. Я по ночам караулю заместо моего папаши. Иногда. Надо что–то с твоим чаном сделать, превратить его обратно в вид, более подходящий для человека. Пошли, пошли быстрее.
– Ты только никому не говори, ладно?
– Не переживай, некому мне болтать в столь поздний час, да и не люблю я этим заниматься. Сам же прекрасно знаешь, – сказал Олли, зажмурив один глаз. Может, он хотел походить на Одина?
И мы пошли вниз к затихшему на ночь фьорду, где у пирсов стояло несколько дракаров, где перекликались меж собой сторожевые викинги, где я должен был бы узнать все, что попросил меня Охвен.
– Олле–лукойе, совсем башка дырявой стала! – внезапно остановился я. – Про фляги–то с молоком я и забыл!
– Не переживай, сейчас сгоняю. А ты вон к тому шалашику ступай. Костерок запали снова, он у меня наверно уже затух.
И Олли помчался наверх, нелепо переставляя ноги–ходули, еще умудрившись дать мне отмашку рукой – иди, мол, иди.
Я посмотрел ему вслед и почему–то заплакал. Пытался сдержаться, но рыдания просто рвались из груди. Слезы текли по лицу, я судорожно всхлипывал – и никак не мог остановиться. Я плакал не от боли, хотя боль–то как раз и не проходила. Мне просто стало жаль себя и еще жальче становилось оттого, что кто–то отнесся с состраданием к моей волевой личности. Словом, я скис, размяк и расклеился. Мне необходимо было время, чтоб прийти в себя. Я и пошел к шалашу, стараясь не обращать внимания на несколько болезненное состояние.
Шалашик у Олли был невелик, забраться внутрь не испытывал ни малейшего желания. Костер разводить тоже не стал. Просто присел у входа, изредка всхлипывая. А тут и приятель мой прибежал с молочными емкостями, тяжело дыша, как загнанный бобер. Полез к себе в хижину, повозился там, при этом крыша чуть было не съехала. И у меня, и у шалаша. Подошел ко мне, печальному, и протянул в березовом коробочке дурно пахнущую кашицу.
– Это такая штука из водорослей делается, синяки пропадают, опухоль сходит быстрее. Намажься – и будет к утру а, хорошо!
– Наверно, кожа тоже сойдет вместе с синяками.
– Весьма возможно, но у тебя разве есть выбор? А я тебе песнь сложу, как мы сегодня Бэсана завалили.
– Что–то с памятью моей стало: как этот хмырь меня заловил – помню, как по голове дал – тоже помню, а вот откуда ты появился, да еще, как мы этого кабана сделали – хоть убей, не скажу!
– Так слушай же, отрок зеленый, мажь лицо свое целебной дрянью и повесь уши свои на гвоздь внимания. Песнь слагается не на день, а на века. А, хорошо! Внукам своим будешь потом петь о славном подвиге скальда Олли, не убоявшегося ужасного людоеда Бэсана, и свалившего безобразного монстра метким камнем, пущенным из засады, в то время как тот уже начал грызть ноги павшего в неравной схватке героя. А, хорошо!
Я зачерпнул на кончики пальцев зеленовато–серую суспензию и очень осторожно нанес на лоб. Да, от такой боевой раскраски впору всем врагам разбежаться – запашок стоял еще тот. Словно в тине запуталась и издохла не одна сотня лягух, пиявок и жуков-плавунцов. Но лицо мое потихоньку стало напоминать настоящую пуховую подушку, а его я растил, холил, лелеял и пестовал совсем для других целей. Чтоб носить бороду и усы.
Олли тем временем принял позу пиита, вашу мать. Встал в полный рост, опустил голову себе на грудь, чтоб волосы покрывали лицо, выставил вперед слегка согнутую в локте левую руку, будто подаяние просил и застыл. Вдруг он резко встряхнул буйной главой, стремительно вознес левую руку вверх, словно указывая на неведомую мне звезду. Я от неожиданности чуть не выронил коробочку с эликсиром себе за пазуху. А Олли, нараспев и слегка раскачиваясь из стороны в сторону, глухим и хрипловатым голосом начал декламировать. Рука его, тем временем начала медленно – медленно опускаться.
– И теперь, на закате жизни,
Когда годы берут свое -
На судьбу я свою не обижен,
Благодарен я ей за все!
Когда–нибудь, подобно богу,
Пройдя тернистую дорогу,
Познать все тайны бытия,
Сумею, может быть, и я.
И вот тогда геенны огненной за мной запрутся двери.
Наступит час расплаты за грехи. Отныне
Мой рев смертельно раненного зверя
Да будет гласом вопиющего в пустыне! (С. И. Тихонов, карельский поэт)
У меня даже рот открытым остался, во загнул!
Олли откашлялся, пробормотал что–то, типа «ну, это, как бы прелюдия, как бы вступление», и продолжил, старательно эксплуатируя все иносказания, как это у них, скальдов, положено.
Тем не менее, когда я собой являл законченного гоблина с бугристым зеленым лицом, ситуация более–менее прояснилась.
Олли подымался от своего сторожевого поста, где он на самом–то деле по ночам выполнял роль посыльного. Крайне редко, к слову будет добавлено: кому надо по ночам без особой необходимости тревожить мирно спящий люд? Он поднимался по тропке, чтоб окинуть взором вечерний фьорд, как заметил меня, живенько спускавшегося ему навстречу. Но тут вдруг от самого большого камня около дорожки отделилась огромная фигура, будто каменный тролль выбрался из валуна, где таился днем. Храбрый скальд, конечно же, спрятался, но по донесшемуся до него голосу, понял, что тролль – это на самом деле вовсе не тролль, а гнусный Бэсан, каким–то злобным ветром занесенный в эти края на ночь глядя. Скорее всего, тот, бухой по самые уши, решил здесь слегка передохнуть, а тут такая пожива! Не попался бы я, попался бы сам Олли.
Сначала он хотел незаметно раствориться в пространстве, но меня бросить в беде тоже как-то нехорошо. Спасибо тебе, друг, за честность! Олли быстро подобрал камень, подходящий для пращи. А уж пращником–то среди наших парней он был знаменитым. Бэсан тем временем отбросил меня мощным хуком на камни и, пытаясь одновременно удержать равновесие, пинал меня, качаясь и наступая на мои конечности. Олли подобрался поближе, начал было раскручивать пращу, но передумал: мало ли силы не рассчитает и прибьет этого монстра насмерть. Взял камень в руку и от всей души бросил в голову Бэсана. Тот даже мяукнуть не успел, повалился, как подрубленный камыш. Лишь бы только назавтра не помнил ничего, а то поймает, гад, мало не покажется.
Словом, такие вот подвиги из засады, на живца. Действительно достойно памяти в веках…
Слагает руны, Олли, вне всяких сомнений, замечательно, но внезапно пробудился к жизни мой желудок и на все голоса стал напоминать о себе.
– Слушай, герой, а не найдется ли у тебя здесь что–нибудь перекусить? Я сегодня вообще не емши… Нет–нет, ты не подумай чего, все ты проделал самым правильным образом, если бы не ты, не знаю, что случилось бы дальше… А мне надо еще сегодня кое-что разузнать, а с раннего утра возвращаться к Охвену.
– Да поесть–то, конечно, найдем, – после некоторой паузы сказал Олли. – Но ты вот, как певец певцу, скажи: получилась ли руна, или нет? Только учти, отрицательное мнение меня не интересует.
– Мне понравилось, без всяких льстивых слов. Да ты и сам прекрасно понимаешь, что у тебя все неплохо получается, особенно про «закат жизни, когда годы берут свое».
– Ну, это все образно. Значит, тебе понравилось. А, хорошо.
С этими словами он полез обратно в свою шаткую берлогу и вытащил кусок подсоленной рыбы и кувшин квасу.
Шевелить челюстями было больно, да и несколько неудобно из–за зеленой корки подсохшего тинно–лягушечьего бальзама. Тем не менее, еда оказалась на диво вкусна, давненько не едал уже подобных яств – целые сутки.
– Кстати, чем ты меня таким поливал, когда я полубезумно пытался двигаться? Вроде воды с собой ты не нес? Или это была не вода? Или ты облил меня тем, чем обычно костры тушат?!
Олли озадаченно посмотрел на меня, потом его глаза стали сходиться к переносице. Потом он слегка хлопнул себя ладонью по виску, глаза моментально разбежались. Потом он надул щеки, отчего стал похожим на сову, так как нос его утончился, побелел и хищно изогнулся. Потом он как бы лопнул, словно порванный надутый мех и захохотал. Смеялся он крайне заразительно, закатив очи и отмахиваясь, как от ленивой мошкары, рукой. Мне тоже стало смешно, но как–то не очень.
Наконец, Олли прекратил махать рукой, похлопал меня по плечу и, сдавливая смешки, произнес:
– Да водой я тебя облил, не переживай, водой! Несколько не родниковой, но ты уж не обессудь! Снял свою любимую шапку, – и он стащил с самой макушки крохотный кожаный колпак и помахал им перед самым моим носом. – Зачерпнул из ближайшей лужи и облил тебя. А ты подумал!.. – он опять захохотал.
– Кстати, если бы я тебя тушил, как костер, то ты бы ощутил теплоту моего тела, а не холод земли. Понял, башка твоя зеленая?
– Понял, понял…
Мы немного помолчали, я немного поел, потом Олли замычал себе под нос. Едва слышно до меня доносились слова одной из его баллад:” It`s time to say goodbye, it’s time for you and I. Oh, don’t you see the smile, dark is the night for all.”
– Слушай, Олли, не происходило ли здесь за последний день–два что–нибудь необычного?
– Что ты имеешь ввиду?
– Ну, там, вдруг, чужие люди появились…
– Что же в этом странного? У нас всегда появляются чужие, торгуют, знаете ли, потихоньку. А вообще–то пару дней назад пришел дракар, точнее даже не дракар, а какой–то корабль. То ли боевой, то ли торговый, но явно не из наших – я такого никогда не видел. Старики говорили, из теплых морей пришел. Постоял немного на рейде, вывесив перевернутые щиты, потом приезжал на лодке переговорщик, показал охранную грамоту от конунга, проплатились изрядно, да и встали у пирса. Типа пополнить запасы воды и провизии. Чего–то там обменивали, чего–то торговали. Буянить не пытались, да и поди попробуй, когда рядом в полном вооружении отряд викингов, который с удовольствием помашет мечами. В лес даже поутру, по самому туману ломанулись, не спрося на то никакого позволения. Наши побежали, было, за ними вслед, но не сразу, а после того, как туман пропал. Кому охота носиться по лесу, когда не видно ни зги? Но те уже навстречу вышли. Все побитые, поломанные, три человека так и вовсе мертвые. Злой, говорили, лес, опасный. Конечно, злой, особенно когда в нем порождения тьмы и ужаса нежатся, радуясь возможности при свете дня не прятаться в свои норы. Похоронили они своих мертвецов у самого дальнего мыса. Причем странно как–то: зашили каждого в парусиновый мешок, да и закопали в глубокую яму. А потом сразу же и отплыли. Наши–то колдуны ходили туда, могилы те зачаровывали, чтоб, значит, вреда от их мертвецов нам не было никакого. Вот вроде и все. Кто эти люди были, откуда они приплыли, куда отправились – мне не известно. Да и не мое это дело–то.
Он с трудом подавил зевок.
У меня же напротив все желание прилечь, как ветром сдуло. Захотелось немедленных действий. Но что тут поделаешь, когда вокруг воцарилась самая темная ночь! Придется ждать до рассвета.
– Слушай, Олли, кто же этих иноземцев так отделал? Что–то не припоминаю, чтоб у нас в окрестностях нелюди шалили. Эльфы еще при предках наших предков за море свалили на свою мифическую Зеленую землю, гномы в наших краях издревле не жили, орки и тролли так и вовсе сгинули незнамо когда и куда.
– А может им глаза в тумане сам Локи отвел, вот они друг с другом и начали биться. Да и какая теперь разница! Вот спать охота – это да, это от души! Я уже и двумя руками веки держать не в состоянии. Давай-ка переспим это дело слегка. Ты, я так понял, в мою хижину лезть не намерен, вот и спи у костра. Утро вечера мудренее.
С этими словами он полез в свое утлое жилище, пошатал его изрядно, выбросил мне парочку меховых одеял и превратился в недвижимую неслышимость.
Ночь была достаточно свежа, поэтому я не поленился создать в затухающем костре стену огня, предположив, что количество дров в стене хватит аккуратно до рассвета. А с рассветом мне надо было возвращаться к Охвену, мучается, поди, старик в неведении…
3
Ночь прошла настолько спокойно, что утром я ощутил себя отдохнувшим и полным сил: спал без сновидений, завернувшись в теплые меховые одеяла. Холод не смог пробиться через завесу тепла, создаваемую только сейчас угасшим костром. Все было замечательно, я жмурился восходящему солнышку, слушал веселое пение утренних птичек и радовался жизни. Что еще нужно совсем юному человеку, чтобы утром ощутить себя счастливым? Правильно – хорошая погода. И еще отсутствие воспоминаний.
Внезапно восстановив в памяти все события минувшего дня, для чего хватило лишь доли секунды, настроение мое довольно изрядно омрачилось. Уже и птичек не стало слышно, и солнышко светит в другую сторону. Я осторожно пощупал свое лицо. Боли и одутловатости не ощутил, только шершавость изрядную. Правильно, у меня же на лице застыла ночная косметическая маска. Для профилактики кряхтя, я выскользнул из объятий тепла и, посмотрев по сторонам и убедившись, что поблизости никого нет, на цыпочках побежал к морю умываться. Конечно, не самая приятная в мире вещь – мыться соленой водой, но за неимением поблизости пресного источника, можно довольствоваться и этим.
Когда я возвращался к шалашу, Олли уже раздул огонь и, зябко поеживаясь, обхватив руками плечи, смотрел неотрывно на крохотное пламя. Чтобы хоть как-то отреагировать на мое приближение, ему пришлось сначала поднять голову, а потом отлепить от язычка огня свой застывший взгляд.
– Человек может бесконечно долго смотреть на горящий огонь, на летящие облака, на текущую воду и на то, как работает другой человек, – продекламировал он и сразу же задорно добавил. – А что – ничего!
Это он имел в виду мою отмытую от бадяги физиономию.
– Желтая, конечно, как у осеннего листа, но зато, ни опухоли тебе, ни синяков! А, хорошо!
– Все твоими молитвами, старина! Даже и не знаю, как тебя благодарить? – присел, было, я к костерку. – Слушай, Олли, мне бежать надо, Охвен там, поди, заждался. Отнеси, будь другом, фляжки моим, скажи им, мол, все в порядке. Договорились?
Олли только рукой махнул в согласии, весь ушедши в загадочное скальдовское самосозерцание.
– В следующий раз, если Бэсан на тебя наскочит, я его также лихо отделаю, – сказал я и убежал.
Можно, конечно, было размахнуться одновременно руками–ногами – и в один миг оказаться на знакомых лугах, гася инерцию об удивленных коз. Но тогда я был бы сверхскоростным предком супермена. Можно было поместить согнутые в локтях руки перед грудью и в такт широкому размеренному шагу помахивать расслабленными кистями, одновременно поводя головой из стороны в сторону. Но тогда бы я стал олимпийским чемпионом 1980 года из Эфиопии Мирусом Ифтером. Я же оставался изрядно помятым в ночной потасовке парнем, да еще из далекого прошлого, где не встречались пока ни супермены, ни, тем более, загадочные эфиопские бегуны. Мое время всеобщего знания еще не наступило. Я кое-как тащился и жалел себя, находя тысячи оправданий своей медлительности.
Меня еще даже не приобщили по молодости лет к рукояти меча викинга, поэтому мое тело капризничало и еле тащилось по знакомой тропке. Если бы я был уже воином, то, без всяких сомнений, уже бы давно добежал до места. Душа моя, конечно, неоднократно сгоняла к нашему кампусу и возвращалась обратно, очень притом удивляясь, что я сделал за это время всего пару сотен шагов.
Тем временем, очутившись в зоне досягаемости рецепторов Бурелома, я триста раз покритиковал свою опрометчивость за отсутствие с утра даже глотка воды, о чем не преминул сказать радующемуся встречей псу. Охвен издалека казался все в том же положении, в каком я оставил его вчера. Пока я с натугой дотащился, наконец, до вполне живого огня, старик не пошевелился. Только его пальцы перебирали без остановки маленькую медную рыбку. У меня сложилось подозрение, что этим делом он занимался всю ночь, потому что эта поделка из буро-зеленоватой, какой мы ее нашли, стала отливать местами блестящей краснотой начищенной меди. Рядом с Охвеном стоял кувшин с бражкой и полная до краев кружка. Судя по уровню напитка в кувшине, он за всю ночь так и не осилил второй бокал. Если при этом не брать во внимание предыдущих пять или шесть с половиной.
Я присел напротив. Снова прибежал Буренка, ткнулся носом в подставленную ладонь, посмотрел пытливо мне в лицо своим коричневым глазом, втянул влажными ноздрями воздух, чихнул и даже потер свой нос лапой. Мне показалось, что от него тоже попахивает бражкой
– А что ты хочешь, шченок? Так уж судьба распорядилась. Не нравится – не нюхай, – сказал я псу. Тот, словно поняв меня, встал, пару раз махнул хвостом, с хрустом потянулся, вытягивая задние ноги. При этом пасть его тоже натянулась, напоминая своими очертаниями неискреннюю, злорадную улыбку. И убежал по своим собачьим делам.
Охвен, наконец, посмотрел на меня.
– Здорово, Мортен! Эк, ты нынче желт!
– Да вот так получилось, – ответил я, слегка негодуя на свой тон, в котором легко прослеживалась попытка оправдаться.
– Бэсан? – спросил старик, слегка сощурив глаза.
– Откуда ты знаешь? – опешил я
– Да больше, вроде бы, некому. Ладно, разберемся с этим выродком позднее. Ну, расскажи, пожалуй, что там дома творится?
Я выложил перед ним все, о чем мне ночью поведал Олли. Охвен только кивал головой, будто соглашаясь. Мое внимание привлек какой-то предмет, вызывающий неясный вопрос: «Что это такое?» Впрочем, строить догадки я не мог, потому что машинально зафиксировал эту штуку взглядом, а вот теперь, как ни пытался присмотреться – ничего не мог обнаружить. Напасть какая-то. Наверно, я вытягивал шею, как гусь, потому что Охвен чуть улыбнулся.
– Ну, что пытаешься увидеть, друг мой?
– Да и сам не знаю чего, – ответил я. – Так, показалось что-то.
Охвен махнул рукой:
– Ладно! Ты, вероятно, это заметил? – спросил он, доставая из-за спины продолговатый сверток кожи. Он раньше был перевязан тесемками, но теперь эти ленточки просто свисали, как бессильно опущенные руки, или, даже, щупальца. Когда-то, туго перевязанные, они придавали некую форму свертку, настолько характерную, что я без всяких сомнений решил: там меч. Конечно, вариантов могло быть много: от большой дудки до маленького посоха, но мне хотелось думать определенно.
– Это меч? – спросил я, почему-то затаив дыхание.
Охвен, прищурив глаза, посмотрел на меня.
– Нет. Это не меч.
Меня эти слова несказанно расстроили. Так бывает, если дарят тебе горшочек с медом, а потом выясняется, что он нагло пуст – кто-то стремительный успел съесть все лакомство до тебя. Конечно, ты виду не подаешь, что опечалился, но, ей-богу, физиономия у тебя становится откровенно удрученной.
– Точнее, это не совсем меч, – сжалился надо мной Охвен. – Это гораздо серьезней. Да, впрочем, чего уж тут говорить – смотри сам!
Он развернул сверток и положил себе на колени простые ножны из толстой серой и на вид очень плотной неизвестной материи, в которых пряталось что-то, имеющее черную, туго завернутую тончайшей кожей, рукоять.
– Говорят, их сделали из кожи носорога. Есть такой зверь, похожий на чудовище далеко-далеко в Египте. Ростом с гору. Огромен, а глаза, как у свиньи, такие же маленькие. И красные, вдобавок. На носу рог, величиной с нашего друга Бэсана. Только не такой тупой, гораздо острее. Вот бежит этот носорог по земле – а в деревне, что за сто полетов томагавка от него, посуда со столов на пол падает. Люди вздыхают, разбирая черепки и осколки, костя на все лады это чудище. А тот, знай себе, чешет по своим делам, не разбирая дороги, выворачивая по пути с корнем деревья, раздвигая горы. Стрелы его не берут, копья – нипочем, камни от шкуры отскакивают, – сказал Охвен, похлопывая по ножнам.
Я с уважением посмотрел на маленькую частичку загадочного исполина и попытался его себе представить. Получалось плохо: четко видел только вытянувшегося в струнку Бэсана с заостренной, как бревно в частоколе, головой. Глаза у него были маленькими, злыми и красными.
– А как же они тогда сумели его добыть? – удивился я.
– Да очень просто, Мортен, – хмыкнул в бороду Охвен. – Придумали, по крайней мере, два способа, как справиться с таким монстром. Конечно, придумали далеко не сразу. Сначала нападали с чем попало, сетки всякие сомнительные плели, катапульты. Каждая попытка уносила по сто человек. Потом людей стало не хватать. Призадумались, а заказы на носорогов оставались невыполненными. Нашелся, наконец, один умник, который сообразил, как убить этого великана. Делов-то – выкопать яму подходящих размеров, заложить досками и забросать землей. Потом раздразнить, как следует обидными словами и неприличными жестами – и бежать от пышущего праведным негодованием гиганта к западне. Единственное, казавшееся немного неудобным, это то, что носорог-то сам себе на уме. Следовательно, гуляет, где захочет. А яма просто так в земле редко когда появится. Приходилось долго и упорно окапываться, пренебрегая усталостью. Но, наконец, подходящее углубление вырыто, замаскировано. Приманивают носорога. Из тех, что самый ближайший к западне. Через равные промежутки расставляют людей – загонщиков, чтобы они направили зверя в нужную точку. Когда носорог начинает свой марш, то людям самое важное – это успеть добежать до сменщика и юркнуть незаметно куда-нибудь в щель. Если не успевают – то ничего не поделаешь: приходиться бежать дальше в виде лепешки, приставшей к подошве ноги монстра. Через некоторое количество времени в заранее определенном месте уставший исполин ухает под поверхность земли, удивляется этому, возбужденно ворочается и без надлежащего ухода обиженно издыхает. Так и добывались мертвые носороги. Но эти ножны сделаны из шкуры живого.
Охвен замолчал, глотнув бражку, чтобы промочить горло. Я ждал продолжения рассказа. Прибежал Буренка, посмотрел мне в глаза и предпринял попытку что-то прогавкать, однако, безуспешную. Получилось, что он энергично выдохнул. Пес считал ниже своего достоинства тратиться на сотрясание воздуха по пустякам. Тем не менее, мне пришлось сходить с ним, разобраться, в чем дело.
Две козы влезли в густые кусты и там, сцепившись рогами с сучьями, безнадежно застряли. Теперь они подбадривали друг друга отчаянным блеяньем.
Я поднял топор, и козы замолчали, прощаясь, наверно, со своей козьей жизнью. Но убивать вредных животных я пока не собирался. Чем таскать брыкающихся животных за ноги из этих дебрей, я решил их просто вырубить вместе с живой изгородью.
Но не успел я опустить топор, как откуда-то издалека на меня обрушился звук. Он был еле слышным, но имел такое свойство, что я даже присел, как оглушенный: тоскливый угрожающий полувой–полустон родился из ниоткуда и исчез, оставив после себя сомнение. А было ли это на самом деле? Однако, в подтверждение реальности, Бурелом ощерился и залаял. Потом он перешел на глухое рычание, шерсть на загривке встала дыбом. Козы с бешеными от ужаса глазами мощным рывком выдернули из земли корни кустов и умчались к своим подружкам. Ветки на рогах гордо покачивались, отчего козы стали похожи на оленей. Их товарки тоже заволновались, заблеяли.
Лишь только Охвен сохранял спокойствие. Он все также держал на коленях ножны. Правда, теперь пустые.
– Ты слышал, Охвен? – спросил я, невольно озираясь по сторонам.
– Да, – просто ответил он. – Но поговорим об этом позже, если не возражаешь.
Я пожал плечами: козы успокоились, даже те, с новыми прическами, мирно жевали траву, Буренка развалился, как собака, на нагретом камне. Все вновь стало спокойно и обыденно.
– Охвен, ты сказал, что эти ножны из живого носорога. Разве такое возможно?
– Все возможно в этом мире. Даже самое невозможное.
Он пригубил из кружки и продолжил свой рассказ.
– Есть в той жаркой земле такое дерево, на котором произрастают плоды, совсем несъедобные, пока висят. Потом они созревают и опадают на землю, там еще проваляются пару деньков под солнцем – и все, готовы к употреблению. Не знаю, едят ли их люди, но вот разные твари готовы продать за них души, буде у них таковые имелись. Обезьяны всякие, дикие свиньи, даже львы, не говоря уже о носорогах – все трескают с превеликим энтузиазмом. А потом крутят головами, смеются, качаются, вовсе с копыт падают – как люди после хмельного.









