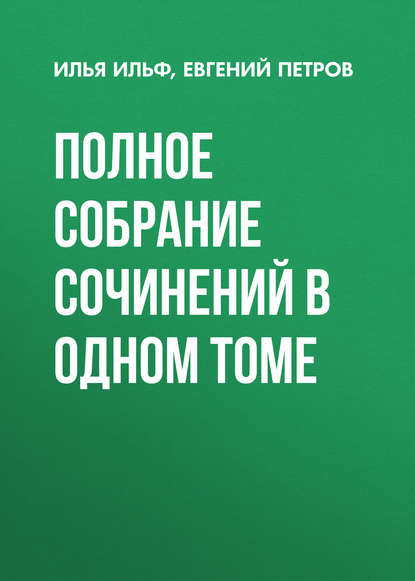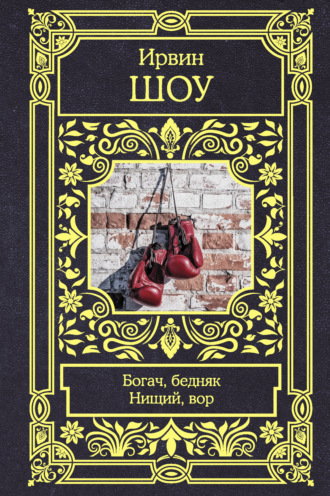
Полная версия
Богач, бедняк. Нищий, вор
– Я ведь работаю, – сказал Том. – Я нужен промышленности Штатов. Поэтому я не в армии.
– Как бы я хотела, чтобы ты был капитаном, – заметила Этель. – Мне бы понравилось раздевать капитана. Одну медную пуговицу за другой. А потом отстегнуть кортик.
– Знаешь что, уезжай поскорее, пока не пришел дядя и не потребовал у меня твой купон на бензин.
– Где мы сегодня встретимся? – спросила Этель, включая мотор.
– У библиотеки в восемь тридцать. Тебя устраивает?
– Ладно, в восемь тридцать, красавчик. Я весь день буду загорать, думать о тебе и вздыхать. – И, помахав ему рукой, она уехала.
А Томас снова уселся в тени на расшатанный стул. «Интересно, – подумал он, – Гретхен так же разговаривала с Теодором Бойленом?»
Он сунул руку в пакет и достал второй бутерброд. На нем лежал листок бумаги, сложенный вдвое. Он развернул его. По-детски аккуратными буквами карандашом было выведено: «Я тебя люблю». Том прищурился. Он сразу узнал листок – в кухне на полке всегда лежал блокнот, в котором Клотильда ежедневно записывала, что надо купить.
Том тихонько присвистнул и вслух прочел: «Я тебя люблю». Ему только что исполнилось шестнадцать, но голос у него был еще по-мальчишески высоким. Двадцатипятилетняя женщина, с которой он разве что перекинулся парой слов! Он тщательно сложил записку, спрятал ее в карман и уставился на поток автомобилей, мчавшихся к Кливленду; он не сразу принялся есть свой сандвич с беконом, салатом и майонезом.
Ни на какой пикник сегодня вечером он не поедет, это уж точно!
IIДжаз-банд Рудольфа «Пятеро с реки» играл «Твое время – мое время», и Руди исполнял соло на трубе, вкладывая в это всю душу, так как сегодня в зале была Джули – она сидела одна за столиком, смотрела и слушала его. Он сам играл на трубе, Кесслер – на контрабасе, Уэстермен – на саксофоне, Дейли – на ударных и Флэннери – на кларнете. Рудольф дал джаз-банду такое название, так как все они жили в Порт-Филипе, на Гудзоне. К тому же ему казалось, что название звучит вполне артистично и намекает на профессионализм.
С ними заключили трехнедельный контракт, и каждый вечер, за исключением воскресенья, они играли в придорожном дансинге «Джек и Джилл» на окраине города. Огромный дощатый барак сотрясался от топота танцующих. Вдоль стены тянулась длинная стойка бара, половина зала была заставлена маленькими столиками, за которыми посетители пили пиво. Парни приходили в теннисках, многие девушки – в брюках. Приходили и девушки без кавалеров. Они стояли у стены, ожидая, когда кто-нибудь пригласит их танцевать, или танцевали одна с другой. Одним словом, заведение было не из шикарных, но джазу Рудольфа платили неплохо.
Играя, Рудольф с удовлетворением заметил, как Джули отказала пригласившему ее парню в пиджаке и галстуке – явно студенту-первокурснику.
Родители Джули разрешали ей проводить субботние вечера с Рудольфом и приходить домой поздно – они доверяли Рудольфу. Он всегда нравился родителям девушек. И не без оснований. Но попади она в лапы сильно пьющего первокурсника, целующего взасос и разговаривающего с видом превосходства, трудно сказать, в какой скверной ситуации она может оказаться. То, что она отрицательно покачала головой, связывало их не менее прочно, чем обручальное кольцо.
Проиграв три такта музыкального автографа оркестра и тем самым объявив пятнадцатиминутный перерыв, Рудольф подал Джули знак выйти подышать свежим воздухом: несмотря на открытые окна, в бараке было жарко и сыро, как в долине Конго.
Когда они оказались под деревьями, где стояли машины, Джули взяла его за руку. Ладонь ее была сухой, теплой, мягкой и такой родной. Удивительно, какие сложные чувства может испытывать человек, просто держа девушку за руку.
– Когда ты исполнял соло, меня даже дрожь пробрала, – сказала Джули. – И я вся съежилась, как устрица, когда на нее капают лимоном.
Он прыснул от такого сравнения. Джули тоже рассмеялась. У нее имелся целый набор таких сравнений для описания того, что она чувствовала. «Я – как торпедный катер», – говорила она, нагоняя его в городском бассейне. «Я сейчас как луна в пору затмения», – заявляла она, когда ее заставляли дома мыть посуду и она из-за этого не могла прийти к нему на свидание.
Они прошли в конец автостоянки, подальше от выхода из дансинга, где на крыльце стояла целая толпа любителей подышать свежим воздухом, открыли дверцу какой-то машины, забрались в нее и стали целоваться в темноте. Они целовались до бесконечности, вцепившись друг в друга. Ее рот был пионом, котенком, мятой, кожа горла под его пальцами казалась крылом бабочки. Они целовались везде, где могли, но больше ничего себе не позволяли.
Он тонул, погружаясь все глубже и глубже, пролетая сквозь струи фонтанов, сквозь дым, сквозь облака. Все существо его любило, любило… Она запрокинула голову, и он поцеловал ее в шею.
– Я люблю тебя, – прошептал он, потрясенный охватившей его необыкновенной радостью, которую подарили ему эти впервые произнесенные слова.
Она прижала его к себе. От ее гладких сильных рук пахло летом, абрикосами.
Вдруг дверца открылась, и мужской голос спросил:
– Какого дьявола вы тут делаете?
Рудольф выпрямился и жестом защитника обвил рукой плечи Джули.
– Обсуждаем последствия взрыва атомной бомбы, – хладнокровно ответил он. – Зачем еще, по-вашему, мы сюда залезли? – Он скорее умер бы, чем обнаружил перед Джули растерянность.
Неожиданно мужчина рассмеялся.
– Задай глупый вопрос и получишь глупый ответ, – заметил он и немного придвинулся. В слабом свете фонаря, висевшего на столбе стоянки, Рудольф узнал его – гладко зачесанные рыжеватые волосы, кустистые светлые брови.
– Извини, Джордах, – сказал Бойлен. В его голосе звучало смешливое удивление.
«Он меня знает, – подумал Рудольф. – Но откуда?»
– Так уж получилось, что это моя машина, – продолжал Бойлен, – но, пожалуйста, чувствуйте себя как дома. Не буду мешать артисту во время его короткого отдыха. Я всегда слышал, что дамы предпочитают трубачей. – Рудольф предпочел бы услышать это в других обстоятельствах и от кого-нибудь другого. – Все равно я пока не собираюсь уезжать. Пойду чего-нибудь выпью. Вы с дамой окажете мне честь, если позже присоединитесь ко мне и выпьете в баре по стаканчику на сон грядущий. – С легким поклоном он осторожно закрыл дверцу и удалился.
Джули сидела неподвижно, сгорая от стыда.
– Он знает нас, – прошептала она.
– Меня, – поправил ее Рудольф.
– Кто это?
– Человек по фамилии Бойлен. Из всем известного «святого семейства».
– О-о, – выдохнула Джули.
– Вот именно: о-о, – сказал Рудольф. – Хочешь прямо сейчас уехать? Автобус отходит через несколько минут. – Ему хотелось предельно защитить ее, хотя он сам не знал от чего.
– Нет, – сказала Джули вызывающим тоном. – Мне нечего скрывать. А тебе?
– Абсолютно нечего.
– Тогда поцелуемся еще разок. – Она придвинулась к нему и обвила его шею руками.
Но в поцелуе была настороженность. Они больше не летели сквозь облака.
Они молча вышли из машины и вернулись в дансинг. Войдя в зал, они увидели у бара Бойлена – он сидел спиной к стойке, опершись на локти, и смотрел на них. В знак приветствия он приложил два пальца ко лбу.
Рудольф усадил Джули за ее столик, заказал ей еще бутылку лимонада, а сам вернулся на эстраду и начал раскладывать ноты для следующего отделения.
Когда в два часа ночи ребята сыграли «Спокойной ночи, дамы» и начали собирать свои инструменты, Бойлен все еще сидел за стойкой бара. Самоуверенный человек среднего роста, в серых брюках из тонкой шерсти и тщательно отглаженном полотняном пиджаке, он резко выделялся из толпы парней в теннисках, рыжевато-коричневой солдатской форме и в дешевых синих выходных костюмах. Заметив, что Рудольф с Джули собираются уходить, он неторопливо подошел к ним и спросил:
– Вам, детки, есть на чем доехать домой?
– В общем-то да, – ответил Рудольф. «Что еще за детки», – с неприязнью подумал он. – У одного из наших ребят есть машина, и мы обычно все в нее набиваемся.
Отец Бадди Уэстермена давал сыну семейную машину, когда он играл в клубе, и они пристегивали к крыше контрабас и барабаны. Если у кого-то была с собой девушка, ее завозили домой, а потом все отправлялись в ночную столовую съесть по гамбургеру.
– В моей машине будет удобнее, – сказал Бойлен, взял Джули под руку и направился к выходу.
Бадди Уэстермен вопросительно приподнял брови, увидев, что они уходят.
– Нас подвезут в город, – сказал ему Рудольф. – В твоем автобусе и так полно народу.
Это уже было легким предательством.
Джули сидела между ними на переднем сиденье «бьюика», который Бойлен вывел со стоянки, и машина помчалась к Порт-Филипу. Рудольф знал, что нога Бойлена прижата к Джули. Эта же плоть прижималась и к нагому телу его сестры. Странно было сидеть вот так, всем вместе, на том же переднем сиденье, где они с Джули целовались всего пару часов назад, но он решил показать себя человеком искушенным.
Рудольф почувствовал облегчение, когда Бойлен спросил адрес Джули, чтобы вначале завезти ее, – не придется потом устраивать сцену ревности. Джули, подавленная и необычно молчаливая, сидела между ними, глядя на дорогу, освещенную фарами «бьюика».
Бойлен вел машину быстро и уверенно. Стремительными рывками, как гонщик-профессионал, он обгонял идущие впереди машины. Рудольф не мог не восхищаться тем, как Бойлен держится за рулем, и ему стало не по себе – он не имел права восхищаться Бойленом: это тоже попахивало предательством.
– У вас славная образовалась группа, – заметил Бойлен.
– Спасибо, – сказал Рудольф. – Нам бы не помешало больше практиковаться и иметь новые аранжировки.
– Вы хорошо держите ритм, – сказал Бойлен. – Я даже пожалел, что слишком стар для танцев.
Рудольф мысленно одобрил это признание. Ему казалось нелепым и даже неприличным, когда люди старше тридцати танцуют. И снова почувствовал себя виноватым: опять ему что-то понравилось в Бойлене. Хорошо, что Бойлен по крайней мере не танцевал с Гретхен, не превратил себя и ее в посмешище. Когда старики танцуют с молоденькими, это уж совсем отвратительно.
– А вы, мисс?.. – И Бойлен умолк, дожидаясь, чтобы кто-нибудь из них произнес ее имя.
– Джули, – сказала она.
– А дальше как?
– Джули Хорнберг, – вызывающе произнесла она, стесняясь своей фамилии.
– Хорнберг? – повторил Бойлен. – Я знаю вашего отца?
– Мы совсем недавно переехали в этот город, – сказала Джули.
– Он работает у меня?
– Нет, – сказала Джули.
Победа! Было бы как-то унизительно, если бы мистер Хорнберг оказался тоже его вассалом. Хоть он и Бойлен, а не все ему подвластно.
– Вы тоже музыкантша, Джули? – спросил Бойлен.
– Нет, – к удивлению Рудольфа, сказала она. Джули явно не желала раскрываться перед Бойленом. Но он, казалось, этого не замечал.
– Вы очень милы, Джули, – сказал он, посмотрев на девушку. – Глядя на вас, я радуюсь, что хотя бы еще не слишком стар, чтобы целоваться.
Старый грязный бабник, подумал Рудольф, нервно сжимая футляр с трубой. Ему хотелось попросить Бойлена остановить машину, но пешком они с Джули доберутся до города не раньше четырех часов утра. Он с горечью отметил про себя, что практичен даже тогда, когда дело касается его чести.
– Э-э… Рудольф… Тебя ведь зовут Рудольф, верно? – повернулся к нему Бойлен.
– Да. – У его сестрицы вода во рту не удержится!
– Ты собираешься стать профессиональным трубачом? – Бойлен задал этот вопрос тоном доброжелательного пожилого наставника.
– Нет. Я для этого не настолько хорошо играю.
– Что ж, разумно, – согласился Бойлен. – У музыкантов собачья жизнь. К тому же приходится якшаться со всякими подонками.
– Ну, в этом я не уверен, – возразил Рудольф. Он не мог допустить, чтобы Бойлену все сходило с рук. – Не думаю, что такие люди, как Бенни Гудмен, Пол Уайтмен и Луи Армстронг, – подонки.
– Кто знает?
– Они артисты, – сухо сказала Джули.
– Одно другому не мешает, детка, – тихо рассмеялся Бойлен и снова обратился к Рудольфу: – Какие же у тебя планы?
– На сегодня? – Рудольф понимал, что Бойлен имел в виду карьеру, но он не собирался рассказывать Бойлену о себе. Ему почему-то казалось, что когда-нибудь все это может быть использовано против него.
– Сегодня, я надеюсь, ты отправишься домой и хорошенько выспишься – ты это заслужил после такой тяжелой работы целый вечер, – сказал Бойлен.
Рудольфа покоробила изысканность речи Бойлена. Метод обманщика. Языковая западня.
– Нет, – продолжал Бойлен, – я имел в виду твою карьеру.
– Пока не знаю. Вначале надо поступить в колледж.
– Вот как? Ты собираешься в колледж? – В голосе Бойлена послышалось удивление. Снисходительное удивление.
– А почему он не может поступить в колледж? – запальчиво спросила Джули. – Он круглый отличник, и недавно его приняли в Аристу.
– Правда? Прошу простить мое невежество, но что такое Ариста?
– Это почетное школьное научное общество, – быстро ответил Рудольф, пытаясь вызволить Джули из неловкой ситуации: ему не хотелось, чтобы его защищали так по-детски. – В общем-то, ничего особенного. Туда принимают практически всякого, кто умеет читать и писать…
– Ты великолепно знаешь, что это не так, – возмутилась Джули. – Члены Аристы – самые способные ученики в школе. Если бы меня приняли в Аристу, я бы не стала так прибедняться.
«Прибедняться», – подумал Рудольф: должно быть, она гуляла в Коннектикуте с южанином. И в нем зародился червь сомнения.
– Я уверен, это большая честь, Джули, – успокоительно произнес Бойлен.
– Конечно. – Она была девчонка упрямая.
– Он просто скромничает, – сказал Бойлен. – Обычное мужское кокетство.
Атмосфера в машине изменилась: сидевшая между Бойленом и Рудольфом Джули была зла на обоих. Бойлен вытянул руку и включил радио. Голос радиорепортера полетел к ним из ночи, передавая новости. Где-то произошло землетрясение. Они слишком поздно включились и не услышали, где именно. Сотни людей погибли, сотни остались без крова, звучало в свистящей тьме, где царило радио.
– Вы считаете, – сказала Джули, – раз война кончилась, Бог может немного отдохнуть?
Бойлен с удивлением посмотрел на нее и выключил радио.
– Бог никогда не отдыхает, – сказал он.
«Старый враль, – подумал Рудольф. – Еще смеет говорить о Боге. После того, что вытворял».
– И в какой же колледж ты собираешься поступать, Рудольф?
– Я еще не решил.
– Да, это очень серьезный вопрос. Люди, с которыми ты там познакомишься, могут повлиять на всю твою дальнейшую жизнь. Хочешь, я замолвлю за тебя словечко в моей alma mater? Сейчас, когда все наши герои возвращаются с войны домой, ребятам твоего возраста нелегко будет поступить в колледж.
– Спасибо, – поблагодарил Рудольф. Только этого ему не хватало! – У меня еще достаточно времени впереди. А в каком колледже вы учились?
– Я учился в Виргинии, – сказал Бойлен.
«В Виргинии? – презрительно подумал Рудольф. – Всякий может учиться в Виргинии. Почему он произнес это так, будто учился в Гарварде, Принстоне или по крайней мере в Амхерсте?»
Они подъехали к дому Джули. Рудольф машинально взглянул на окно мисс Лено в соседнем доме. Окно было темным.
– Ну вот мы и на месте, детка, – сказал Бойлен. Рудольф открыл дверцу и вышел из машины. – Так приятно было с вами поговорить.
– Спасибо, что подвезли, – сухо поблагодарила Джули, вылезла из машины и прошла мимо Рудольфа к крыльцу. Рудольф последовал за ней. По крайней мере он может на прощание поцеловать ее на крыльце. Пока она, наклонив голову, рылась в сумочке, ища ключ, он попытался взять ее за подбородок, чтобы поцеловать, но она сердито отстранилась. – Подхалим. – И зло передразнила: – «Ничего особенного. Туда принимают практически всякого, кто умеет читать и писать…»
– Джули!..
– Валяй, подлизывайся к богачам! – Рудольф никогда не видел ее такой раздраженной и отчужденной. – Гадкий старик. Он красит волосы. И даже брови! Подумать только, что некоторые готовы на все, лишь бы их покатали на машине!
– Джули, ты несправедлива. – Если бы она знала о Бойлене всю правду, Рудольф еще мог бы понять ее гнев. Но только потому, что он старался быть просто вежливым…
– Не трогай меня. – Она достала ключ и пыталась вставить его в замок. От нее по-прежнему пахло абрикосом.
– Я зайду к тебе завтра часа в четыре…
– Всю жизнь мечтала! – оборвала его Джули. – Подожди, пока я заведу себе «бьюик», тогда и приходи. Это больше тебя устроит. – Она наконец открыла дверь и легкой тенью исчезла за ней.
Рудольф медленно двинулся обратно. Если это называется любовью, то на черта она нужна? Он сел в машину и захлопнул дверцу.
– Быстро же вы простились, – заметил Бойлен, заводя мотор. – В мое время мы дольше не могли расстаться.
– Родители любят, чтобы она рано приходила домой.
Бойлен поехал через город в направлении Вандерхоф-стрит. «Конечно же, он знает, где я живу, – подумал Рудольф. – Даже не потрудился это скрыть».
– Очаровательная девушка эта Джули, – сказал Бойлен.
– Угу.
– Вы с ней только целуетесь и ничего больше?
– Это мое личное дело, сэр, – ответил Рудольф. Даже злясь на этого человека, он не переставал восхищаться собой, тем, как холодно и отточенно звучат его слова. Рудольф Джордах никому не позволит обращаться с собой как с плебеем.
– Конечно, – вздохнув, согласился Бойлен. – Но искушение, должно быть, велико. В твоем возрасте… – Он замолчал, словно вспоминая череду девушек, прошедших через его постель. – Кстати, – продолжал он равнодушным, вежливым тоном, – ты получаешь письма от сестры?
– Иногда, – настороженно ответил Рудольф.
Гретхен писала ему на адрес Бадди Уэстермена, не желая, чтобы мать читала ее письма. Она жила в Нью-Йорке в общежитии Ассоциации молодых христианок и обивала пороги театров, пытаясь устроиться в какую-нибудь труппу. Однако продюсеры не горели желанием нанимать девушек, игравших на школьной сцене роль Розалинды, поэтому работы она до сих пор не нашла, зато уже успела влюбиться в Нью-Йорк. В первом письме она извинялась перед Рудольфом за то, что нехорошо вела себя с ним в день отъезда из Порт-Филипа. Она была тогда слишком взвинчена и сама не понимала, что говорит. Но она по-прежнему считала, что ему вредно надолго задерживаться в Порт-Филипе. Семья Джордах – это трясина, писала она, и тут ничто не может ее разубедить.
– С ней все в порядке? – спросил Бойлен.
– О’кей.
– По-видимому, тебе известно, что мы с ней знакомы, – как бы между прочим сказал Бойлен.
– Да.
– Она тебе говорила обо мне?
– Не припомню, – сказал Рудольф.
– Ах-ха. – Что хотел Бойлен сказать этим междометием, было неясно. – У тебя есть ее адрес? Я иногда бываю в Нью-Йорке и мог бы как-нибудь угостить девочку хорошим ужином.
– К сожалению, адреса у меня нет, – соврал Рудольф. – Она все время переезжает с места на место.
– Понимаю. – Бойлен, конечно, видел его насквозь, но не настаивал. – Когда узнаешь, сообщи, пожалуйста. У меня осталась одна ее вещь, которую ей, наверное, приятно было бы вернуть.
– Хорошо.
Бойлен свернул на Вандерхоф-стрит и затормозил перед булочной.
– Вот мы и приехали, – сказал он. – Дом честного труженика. – Издевка была очевидна. – Что ж, спокойной ночи, молодой человек. Благодарю за приятный вечер.
– Спокойной ночи. – Рудольф вышел из машины. – Спасибо.
– Да, вот еще что. Твоя сестра говорила мне, что ты заядлый рыболов. У меня в имении отличный ручей. Каждый год туда запускают форель. Сам не знаю зачем. Никто к этому ручью и близко не подходит. Так что если хочешь, приходи в любое время.
– Спасибо. – Его подкупают. И он знал, что поддастся. – Как-нибудь зайду.
– Отлично, – сказал Бойлен. – Я велю повару приготовить рыбу, и мы можем вместе поужинать ею. Ты интересный мальчик, и мне доставляет удовольствие поболтать с тобой. Когда придешь ко мне, возможно, ты уже получишь весточку от сестры с ее новым адресом.
– Возможно. Еще раз спасибо.
Бойлен помахал ему и уехал.
А Рудольф вошел в темный дом и стал подниматься к себе в комнату. До него донесся храп отца. Была суббота, а в субботу вечером отец не работал. Рудольф тихо прошел мимо двери в спальню родителей. Ему не хотелось будить мать, а то пришлось бы объясняться.
III– Да, я намерена торговать своим телом. И заявляю об этом во всеуслышание! – сказала Мэри-Джейн Хэккет, приехавшая из штата Кентукки. – На талант спроса уже нет. Им подавай просто тело. Молодое и аппетитное. Как только увижу объявление, что требуются модели, скажу: «Прощай, Станиславский» – и начну вихлять за денежки моим маленьким задиком.
Гретхен и Мэри-Джейн Хэккет сидели в узкой, обклеенной старыми афишами приемной Николса на Западной Сорок шестой улице, дожидаясь вместе с другими девушками и молодыми людьми приема у Байарда Николса. За ограждением, отделявшим соискателей от столика, за которым сидела секретарша Николса и с остервенением печатала на машинке, с такой силой ударяя по клавишам, точно английский язык был ее личным врагом и ей хотелось как можно скорее с ним разделаться, стояло всего три стула.
На третьем стуле сидела характерная актриса в меховой накидке, хотя на улице термометр в тени показывал тридцать пять градусов жары.
Секретарша, не переставая печатать, произносила: «Привет, милочка», всякий раз как открывалась дверь и входила новая просительница. Дело в том, что прошел слух, будто Байард Николс собирается ставить новую пьесу и ему требуются артисты – четверо мужчин и две женщины.
Мэри-Джейн, высокая стройная девушка с плоской грудью, зарабатывала себе на хлеб, дефилируя по подиуму. У Гретхен были слишком пышные для этого формы. Мэри-Джейн сыграла на Бродвее в двух провалившихся пьесах и проработала половину сезона в захудалой труппе, сколоченной на одно лето, – все это давало ей основание держаться с достоинством ветерана сцены. Оглядев кучку актеров, грациозно прислонившихся к афишам некогда поставленных Байардом Николсом пьес, она громко заметила:
– Поставив столько хитов еще в стародавние времена, в тридцать пятом году, ей-богу, Николс мог бы иметь контору получше, чем эта вонючая крысиная дыра. Хоть бы кондиционер установил. Должно быть, первые заработанные им денежки до сих пор у него лежат. И что я тут делаю, сама не знаю. Он просто умирает, если приходится платить не по минимуму, и при этом еще закатывает длиннющую лекцию о том, как Франклин Рузвельт разорил страну.
Гретхен стало не по себе, и она кинула смущенный взгляд на секретаршу. Помещение было такое маленькое, что та не могла не слышать Мэри-Джейн. Но секретарша, проявляя каменную выдержку, продолжала стучать на машинке и сражаться с английским языком.
– Ты только посмотри на этих молодых людей. – И Мэри-Джейн головой указала на актеров. – Они едва доходят мне до плеча. Вот если начнут писать пьесы, где героини все три акта стоят на коленях, тогда я смогу рассчитывать на роль. Боже мой, что стало с американским театром?! Мужчины – лилипуты, а если попадется кто выше пяти футов – непременно гомик.
– Фи, фи, Мэри-Джейн, – сказал высокий молодой человек.
– А когда, интересно, ты в последний раз целовал девушку? – требовательно спросила она.
– В двадцать восьмом году, в честь избрания президентом Герберта Гувера, – не задумываясь ответил он.
Все в приемной добродушно рассмеялись. За исключением секретарши, которая продолжала печатать.
Гретхен нравилась атмосфера этого нового мира, в который она окунулась, хотя работы у нее еще не было. Здесь все говорили друг с другом просто, обращались по имени и старались помочь друг другу. Если какая-нибудь девушка слышала, что где-то ищут исполнительницу на оставшуюся незанятой роль, она немедленно сообщала об этом всем своим подругам и даже могла одолжить подходящее для просмотра платье. Гретхен ощущала себя членом большого гостеприимного клуба, право на вход в который давали не происхождение и не деньги, а молодость, честолюбие и вера в талант друг друга.
Гретхен была теперь принята в подвале магазина мелочей Уолгрина, где они собирались, до бесконечности пили кофе, сравнивали сделанные записи, высмеивали успехи, подражали идолам и оплакивали смерть Группового театра; она свободно рассуждала об идиотах-критиках, о том, как надо играть Тригорина в «Чайке», о том, что никто теперь не играет так, как Лоретта Тэйлор, о том, как иные продюсеры стараются уложить в постель каждую девушку, которая к ним приходит. За два месяца, проведенных среди молодых голосов с акцентами Джорджии, Мэна, Техаса и Оклахомы, жалкие улочки Порт-Филипа почти исчезли из памяти, остались точечкой на горизонте воспоминаний.
Теперь Гретхен спала до десяти утра, не испытывая угрызений совести. Она ходила в квартиры к молодым неженатым мужчинам и просиживала там до рассвета, репетируя, – ее нисколько не волновало, кто что может подумать. Лесбиянка в общежитии, где Гретхен жила, пока не найдет работу, попыталась к ней пристать, тем не менее они остались добрыми друзьями, иногда ужинали вместе и ходили в кино. Три часа в неделю Гретхен занималась в балетном классе, чтобы научиться грациозно двигаться на сцене. Она теперь совсем иначе ходила, неподвижно держа голову, так что поставь на нее стакан с водой – не прольется. «Застылость дикарки» назвала это бывшая балерина, ее учительница.