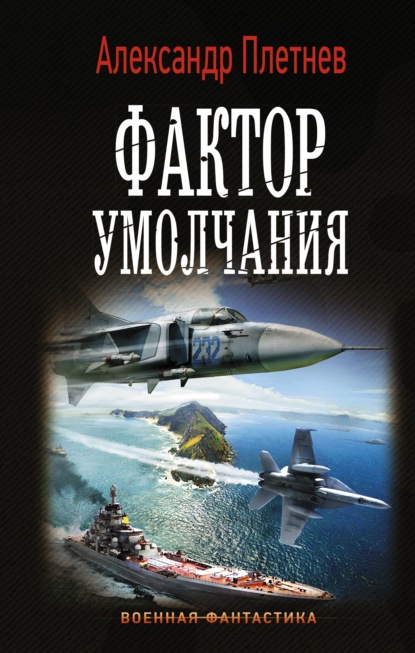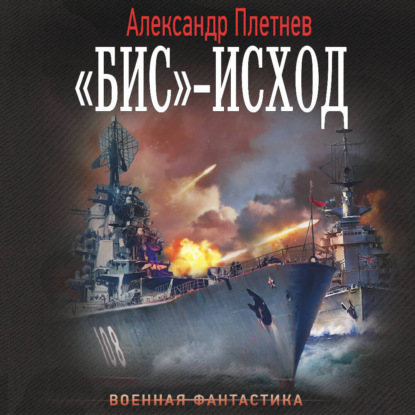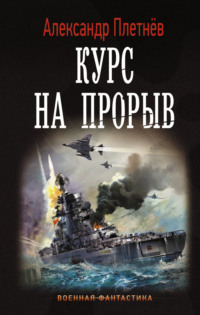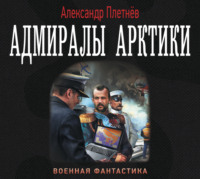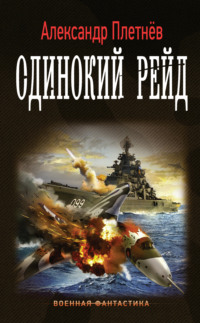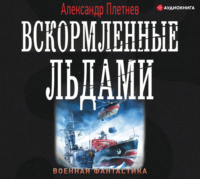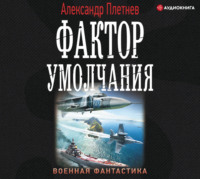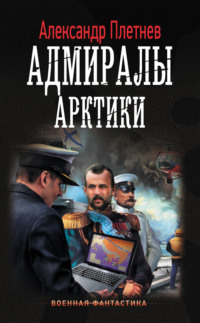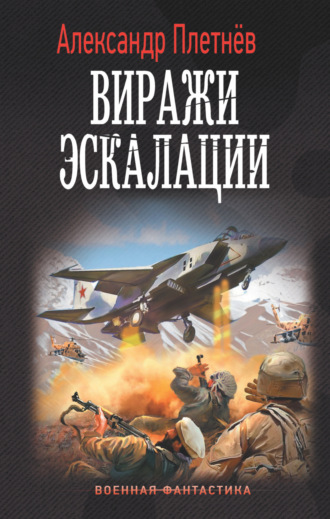
Полная версия
Виражи эскалации
Очень уж штатовцев (а здесь наверняка не обошлось без услужливого стукачества турков) интересовало, что же там русские везут на полётной палубе вертолётоносца.
С «Москвы», дабы отогнать нахалов, сравнительно неспешно (это было не совсем просто ввиду заставленности полётной палубы – работал только один, кормовой лифт-подъёмник) выпустили свои «вертушки».
Ка-25, пользуясь численным преимуществом, отжимали SH-60[40], резали их курс, норовя нависнуть сверху – придавить воздушной подушкой.
Янки убрались, но «обиделись» и вызвали подкрепление…
Вернувшиеся «Интрудеры», поревев в опасной близости от надстроек, параллельно затеяли учебные бомбометания, роняя в нескольких десятках кабельтовых по курсу отряда свободнопадающие «чугунки».
Однако это развлечение палубных асов продлилось недолго… Будто и самим надоело…
Минутами позже появилась причина их поостывшей прыти.
Самолёты тяжёлого авианесущего «Киева» тактически уже дотягивалась до места отряда – серия «М» Як-38 (модернизированная) могла выполнять укороченный взлёт, несла подвесные топливные баки (дополнительные), что вкупе повышало боевой радиус, сиречь увеличивало полётное время.
Да и штурмовик Яковлева против штурмовика А-6 – это вполне на равных.
Четвёрка Як-38М парадно просвистела на низкой высоте, одним своим появлением дав понять, что… В общем, дав понять.
Американцы на отвороте показали пустые подвески, покачав крыльями… Мол, если что, мы-то свою работу всё же сделали.
Такие вот… «реверансы».
* * *Поисково-ударная группа 5-й ОпЭск, куда входил «Киев», маневрировала к юго-востоку от острова Крит, «бодаясь-контактируя» с американской АУГ 6-го флота, которая в свою очередь отиралась далее к западу.
«Москва» с мателотом по диагонали резали Средиземное море, расходясь с КПУГ[41] траверзом на удалении более чем в десять миль, успев увидеть в бинокли лишь противолодочный корабль дальней зоны дозора.
Рандеву или других каких-либо остановок не предусматривалось. Спешили к Суэцу. График движения выдерживался даже с запасом, но по последним сводкам в районе Баб-эль-Мандебского пролива опять произошёл подрыв танкерного судна миной-хлопушкой[42].
А значит, проход отряда в опасных водах нуждался в тральном обеспечении, что могло привести к потере темпа.
Увязавшийся фрегат убедился, что русские целенаправленно следуют в сторону Порт-Саида, о чём известил начальство и, очевидно, получив обратный приказ, отвернул. Присмотреть за вертолётоносцем «комми» в Красном море и далее будет кому и без него: Ближневосточную зону у американцев контролировали корабли всё того же – 6-го Средиземноморского флота. За Суэцем Индокитайский сектор «держал» 7-й флот США, соперничая в «геополитических водах» с 8-й ОпЭск ВМФ СССР.
Дальневосточники
Основу 8-й оперативной эскадры (эскадры Индийского океана) формировал Тихоокеанский флот. Боевая служба кораблей происходила на ротационной основе, выполнялись межфлотские переходы из мест основных дислокаций и обратно, так как пункты материально-технического обеспечения, которыми располагал СССР в регионе, не соответствовали потребностям флота, случись надобность в качественных профилактических работах, не говоря о серьёзном ремонте и крупнотоннажном доковании.
Поэтому натовцы, в лице их «главных предводителей – американцев», смотрели на постоянное движение туда-сюда советских кораблей спокойно.
Шестого апреля сингапурский филиал агентства «Рейтер» отметил в своей новостной сетке, что «…советский авианосец в сопровождении 6000-тонного ракетного крейсера, эсминца и ещё двух судов, был замечен береговыми наблюдателями, когда следовал на юг к Малаккскому проливу»[43].
Восьмого апреля в Индийский океан прошли ещё два военных корабля – класса «фрегат» и класса не меньше крейсера[44].
По сообщениям тех же СМИ, «…еще три советских судна, по всей видимости, принадлежащих военно-морским силам Советов, замечены на подходе к Малайзии в Южно-Китайском море, выдерживая курс по направлению к Сингапурскому проливу».
Американские штабисты в центре управления тихоокеанскими силами аккуратно фиксировали всю получаемую информацию, ставя необходимые пометки на Большом тактическом планшете, отслеживая и анализируя все изменения в оперативной обстановке.
Так, по данным других источников (фото с патрульного самолёта австралийских ВВС) выяснилось, что «Рейтер» ошиблось – обнаруженные суда (те три) несли обычные для торговых судов СССР красные флаги.
Однако! – компания странная: плетущийся в составе каравана быстроходный ролкер-контейнеровоз[45], второе судно – БМТ (в советской терминологии – «большой морской танкер»). А вот «концевое» явно выдавало в себе обеспечитель подплава…
Это наводило на определённые мысли о наличии и самой субмарины, использующей означенные суда в качестве «накидки».
– Ставлю двадцать долларов, что она там есть! – всегда находился кто-нибудь, кто…
– Ерунда! – почти всегда находился другой, кто принимал вызов.
– Не вижу смысла! – скептически аргументировал третий, мол, Сингапурский пролив, как и Малаккский, субмарины любых стран обязаны проходить в надводном положении! Иначе… при той тесноте и интенсивности трафика это было, в конце концов, опасно для самих подводников. Тем более прячась под днищами неповоротливых обеспечителей или иных судов.
Предположение, что под (или за) гражданским транспортом может скрытно следовать русская подводная лодка, относилось к числу заурядных. Тем не менее заурядный факт перехода ПЛ «красных» из Тихого океана в Индийский все же был для американцев предметом пристального внимания.
Распоряжением командного центра в район местонахождения подозрительных судов направили патрульный «Орион»[46] с Филиппин – «посмотреть».
…И были самоудовлетворительно награждены, застав русских со «спущенными штанами»: один из танкеров прямо в море совершал заправку советской субмарины типа «Foxtrot»[47].
(Честная «двадцатка» перекочевала из кармана в карман.)
Подумал ли кто из спорщиков в Пёрл-Харборе, что им попросту позволили «посмотреть»?
Или вовсе – специально «показали»!
С какой целью?.. Например отвлечь! Да и просто, чтобы создать уверенность, которой у янки и без того хоть отбавляй – дескать, русским от нас не скрыться.
А если обобщённо – официальная Москва декларировала межфлотские переходы (в конкретном случае отряда противолодочного крейсера «Москва» и группы «Минск») нагнетанием конфликтной обстановки в зоне Персидского и Оманского заливов, участившимися атаками на танкерные суда, мотивируя необходимостью общего контроля и защиты грузоперевозок, как советских, так и других дружественных стран. Попутно упоминалось о намерениях совершить деловой заход на Сейшелы (обычно такие визиты заранее согласовываются на дипломатическом уровне). Затем, по факту вновь подорвавшихся на минах судов в Красном море, прозвучало что-то и об участии кораблей в тральных мероприятиях.
Американцами все обоснования Советов были учтены как не выходящие за рамки общепринятой ситуационной доктрины, однако…
Кто-то из штабных офицеров заметил старшему дежурному:
– Сэр, когда приводят два и даже три целеполагания, истинное «четвертое», вероятно, хотят завуалировать.
Особого значения словам молодого энсина[48] придано не было.
Проспекция, продолжение…
Не в меру веруя в свою проницательность, порой мы «теряем берега».
Терентьев вдумчиво закурил…
В голове ещё откликалось клаксонами автомобильной выставки.
…Разумеется, первые же «мерседесы» (в семействе E-Class) советской местной сборки разошлись по госведомствам: в ЦК, в министерства, директорам, в силовые структуры…
«Ну ещё бы, спору нет – иерархические традиции непоколебимы!
Ха! Представляю, каким вожделением эти „мэрсы“ стали для „ай, вах!“ черноусых в „аэродромах”[49] граждан южных республик».
Колоритные образы «генацвале» увели кругозор к проблемам внутренней политики, к неоднозначно неспокойным окраинам страны.
При всех заявленных преобразованиях, марширующих по Союзу, в южных республиках (в тех, новых территориальных формациях) начали работать другие, свои специфические схемы.
Там и без того «советская власть» проживала (уживалась) рядом с записным феодализмом, а после новой политики Москвы социальные контуры общества приняли совсем двусмысленные выражения.
Наряду с этим хозяйственно-экономические связности между центром и национальными анклавами претерпевали постепенные, но существенные изменения – происходило перераспределение производств по принципу рентабельности, равно с этим пересматривалось бюджетирование из «государственной копилки». Что, несомненно, стало лишним поводом для недовольства в дотационных регионах и административных образованиях.
«Имперские замашки!» – злопыхая, отметились с частот радио «Свобода», намеренно сгущая краски.
Конечно, всё было далеко не так сурово и кардинально – альтернативы предлагались и осуществлялись, но…
Ежедневная (по два-три часа) долбёжка литературы по геополитике давала свои плоды – лезло из Терентьева, оставляя на полях:
«Советский Союз, несомненно, существовал по законам империи, развиваясь через поглощение, поступательно или экспансивно… переваривая и ассимилируя, насаждая свои законы и догмы. В этом нет ничего необычного – так поступал Рим, так ведут себя США, навязывая демократические ценности. Но вопреки всем избитым лозунгам „ущемлённых народностей“, советская власть никогда не являлась полноценным колонизатором: „завоевать, обобрать и доить, доить, доить!“»
Более того, в попытках приобщить – взять «в семью народов», привить социалистические принципы, приручить, в конце концов – выразился обратный процесс: центр отдавал больше, нежели брал.
Какое-то время организационная составляющая ещё жила, пока окончательно не разложилась элита, дискредитировав основные советские постулаты. Партия утратила формирующее, структурирующее влияние, особенно на окраинах империи.
Да и в целом идеология и идейные учения большевицкой империи оказались неуниверсальными. Они не смогли полноценно укорениться даже на центральных, государствообразующих землях, где жило наследие общины и проклятие крепостного права. Люди устали верить в «цивилизацию коммунизма».
Исчерпался объединяющий фактор (не говоря уж о том негативном вкладе, который внесли внешние враги).
Ближе к девяностым пружины империи, внутренние силы, казалось, практически сжались до предела.
Удастся удержать, переждать пиковый момент, затем медленно отпустить напряжение – страна останется в прежней конфигурации, как минимум в тех формальных границах.
Если нет – всегда есть тот путь, по которому пошли при Горбачеве и вслед за Ельциным: движение станового государства будет точно реактивной тягой отторгать от себя проблемных, неугодных… или же отпочковывая, учитывая, что республики уйдут в самостоятельное политическое плавание. (Чистой воды софизм…)
Многие… очень многие будут радоваться надеждой, проклинать изжитое, а потом через годы жалеть и ностальгировать по ушедшему, позабыв, точно замылив плохое, вынимая из памяти только хорошее.
Наверное, такова природа человека.
* * *Так или иначе, даже при нынешнем подправленном соотношении дел в стране, угроза нестабильности и распада Союза продолжала считаться злободневной (учитывая, что в «советской» Восточной Европе – в Чехословакии, Польше, Румынии – по всем признакам началось расшатывание политической обстановки).
В Москве в кризисном штабе аналитики и прогнозисты, принимая все факторы и тенденции к рассмотрению, скрупулёзно просчитывали постоянно меняющуюся ситуацию… куда как лучше осознавая лимиты прочности.
Императивно прорабатывались всяческие сценарии, включая самые неблагоприятные, на случай которых власть уже предприняла ряд действий, позволяющих при необходимости выйти с наименьшими потерями.
На совещания звучали сомнительные прогнозы:
«Судьба стран Восточного блока зависит от многих факторов и приложений противоположных сил. В настоящее время эти факторы не всегда поддаются аналитическому прогнозированию.
Мы же в свою очередь обязаны подчеркнуть, что принципы советской внешней политики не изменились. Пока на Западе уверены, что мы сохраняем за собой право вмешательства во внутренние дела наших союзников по Варшавскому договору, противодействуя всяким движениям в этих странах, нацеленным на смену строя, на свержение власти – любого подстрекательства к уходу на западную сторону, они будут воздерживаться от активных политических акций.
Отказавшись же от адекватного контроля над ними, мы в итоге обрекаем Варшавский договор на заклание. Процессы вскоре станут необратимы, отбросив тень и на Союз… тем самым провоцируя распад собственной страны.
В то же время мы не можем продолжать оставаться над ними полицейским надсмотрщиком. Антагонизм в отношении Москвы будет только возрастать, что может привести к взрыву.
Пусть они декларируют у себя новый рыночный подход в экономике – возражать мы не станем… В конце концов, у нас происходит то же самое.
Однако!
Стратегически важно сохранить за собой военное присутствие, даже если режимы в этих государствах претерпят структурные и социальные изменения.
Необходимо создать юридически грамотный прецедент, закрепляющий наши войска на территориях союзных нам сейчас стран, договорами „о военных базах СССР” – на 50 или лучше на 99 лет, в обязательном порядке прописав условия, с внесением всех щекотливых моментов: по транзиту, обеспечению, размещению того или иного вооружения. Иными словами, если ситуация вдруг сложится так, что нас захотят выставить вон или чинить какие-либо препятствия, включая мирное пикетирование, – это влетит им в серьёзную валютную копеечку».
Звучали и неутешительные выводы:
«В ближайшие несколько лет мы не сможем создать условия, при которых не будут сохраняться предпосылки к выходу некоторых национальных конгломератов из состава государства.
На данном этапе удержание СССР в прежних границах невозможно другим образом кроме как военной силой. Однако радикальные методы, как то: введение войск и военного положения, репрессии, превратят СССР в окончательно тоталитарное государство.
Сопоставив все имеющиеся данные и вариативные прогнозы, кризисной комиссией такой подход сочтён неприемлемым, могущим привести к ещё более разрушительным последствиям, нежели известные нам по опыту горбачёвско-ельцинской России.
Тем не менее, зная и имея представление обо всех оппозиционных группировках и других движениях сепаратистского толка, руководство КГБ готово принять оперативные меры по своевременной ликвидации и аресту известных преступных антигосударственных лиц».
* * *В общем… вследствие или вопреки, календарь ронял листки, неблагополучно проскочив круглую дату, открывая «1991», а Союз продолжал сохранять официально декларируемую монолитность.
Безусловно, этому способствовали ряд превентивных реализаций (зная, как оно может быть): статистика показывала лучшую экономическую обстановку в целом, сохранялся контроль над региональными элитами, с учётом, что они и сами были крайне заинтересованы в удержании власти.
Аналитики даже выделили такой фактор, что «вовремя инспирированный уход в отставку болезных генеральных секретарей положительно повлиял на психологическую атмосферу и настроение в народе» – не было «хоровода смертей» Брежнев-Андропов-Черненко.
Удалось предотвратить несколько серьёзных катастроф, включая самую зна́ковую – чернобыльскую.
В 1985 году (на четыре года раньше) был выведен советский военный контингент из Афганистана.
Но главной составляющей, несомненно, являлся контроль над «гласностью» и проведение более тонкой пропаганды, маскирующейся под «глас народа» и другую фронду.
Выводы, сделанные по факту «перестройки Горбачёва», указывали на то, что «вовлечение населения в политическую активность привело к выдвижению в народные и оппозиционные лидеры расшатывающих социальную лодку крикунов (это в самом нейтральном случае). В действительности – какие люди пробивались и приходили во власть (в большей степени это касается «ельцинской команды») и какую тут роль играли иностранные спецслужбы, более чем показательно».
Всё это, можно сказать, были общие положения.
Сверх этого спецслужбами обязательно проводились специфические операции в отдельно взятых республиках.
В Прибалтике, прежде всего, обратила на себя внимание «Лига свободы Литвы» – законспирированная организация национально-освободительного толка (куда КГБ давно внедрил своих агентов). На самом деле «Лига» была образована ещё в 1978 году. Однако чрезвычайно осторожные «советские лабус-европейцы» созрели на выступления и массовые провокации только к девяностому году, когда почуяли перестроечные послабления (к этому времени в Чехословакии и Польше к власти приходят антикоммунистические лидеры… что стало для прибалтов едва ли не «знаком свыше»).
КГБ сумел сыграть на опережение, в ночь буквально перед ожидаемыми антиконституционными акциями произведя собственные точечные аресты.
– Бедные литовские патриоты-националисты, – не скрывая сарказма, улыбался один из высокопоставленных товарищей на Лубянке, принимая оперативные доклады, – неужели они действительно ни о чём не подозревали?!
– Информационная фильтрация неизбежна, – отвечал равный по погонам офицер, чуть реалистичней смотрящий на вещи. Впрочем, тоже не без улыбки, – как протечка воды в изношенных системах. Полагаю, что в малой степени кто-то успеет среагировать и уйти от ареста. Однако отыграть назад не получится… все фамилии в списке.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Проспекция – конструктивный приём, используемый для предуведомления читателя. В корпусе текста реализуется в оборотах типа: забегая вперёд. В нашем случае применение данного термина в названии глав оправдано потребностью показать общие тенденции развития страны, наряду с непосредственно ретроспективным повествованием локальных событий 1985 года.
2
У стенки, сиречь у причала, пирса.
3
ОКБ – опытно-конструкторское бюро, общепринятое сокращение. Или особое (отдельное) конструкторское бюро.
4
Вооружённые силы.
5
Крючков Владимир Александрович – генерал армии, на момент повествования в деле крейсера-пришельца являлся доверенным лицом Андропова. Назначен на пост председателя КГБ.
6
От автора. Это не от безграмотности, а исключительно на произношении: «загранишница» – «яишница».
7
Соответственно привет от Киплинга.
8
Совмин – Совет Министров СССР.
9
Младший научный сотрудник.
10
БПК – большой противолодочный корабль.
11
Минный кризис 1984 года в Суэцком канале и Красном море.
12
КЧФ – Краснознамённый Черноморский флот.
13
«Vikrant» – лёгкий и, несомненно, к 1985 году устаревший авианосец британской постройки образца Второй мировой войны.
14
В реальной истории в строй БПК вступил в декабре 1985 года, а передача Индии состоялась в апреле следующего.
15
В реальной истории первый полёт Як-141 совершил в 1987 году.
16
Основные задержки в разработке Як-141 были в том числе связаны с созданием на авиамоторном предприятии АМНТК «Союз» принципиально нового подъёмно-маршевого двигателя для самолёта.
17
ЗИП – сокращение от «запасные части, инструменты и принадлежности», используемое в эксплуатационной документации на любую технику согласно принятым ГОСТ.
18
«Кречет» – тяжёлый авианесущий крейсер проекта 1143, являлся закономерным улучшенным развитием проекта 1123 «Кондор».
19
БПК «Твёрдый» в индийском флоте (назван «Ранвир») сначала классифицировался как фрегат, затем переведён в класс эсминцев.
20
Успокоители качки.
21
АПУГ – авианосная поисково-ударная группа. ОБК – отряд боевых кораблей.
22
СКР – в советской классификации «сторожевой корабль», в «западной» относился к классу фрегатов.
23
Очевидно, танкер проекта 1559-Б «Борис Бутома».
24
Данные учения Тихоокеанского флота СССР произошли и в реальности.
25
АУГ – авианосная ударная группа.
26
КШУ – командно-штабные учения.
27
Carrier или аircraft carrier(англ) – авианосец.
28
Очевидно, речь идёт о рассказанном Рейганом анекдоте, где высмеиваются десятилетние очереди на автомобили в СССР.
29
В 2014 году (по сюжету именно из этого года ТАРКР «Пётр Великий» попал в прошлое) «Лада Веста» была представлена на Московском международном автосалоне ещё концептом.
30
В Штутгарте находится штаб-квартира компании «Мерседес-Бенц».
31
Из повести Н. Лескова «Сказ о Левше».
32
Имеется в виду Крымская война 1853–1856 годов.
33
ГЭУ – главная энергетическая установка.
34
Очевидно, индивидуальные заводские огрехи главного турбозубчатого агрегата, у которого на 7000–7500 об/мин возникали непредвиденные резонансные явления. На втором корабле проекта подобных проблем не наблюдалось.
35
Румели Фенери – поселок, расположенный на мысе, в самой северной части европейского побережья в устье Босфора.
36
Танкерная война с 1986-го по 1989 год. Ирак, а затем и Иран начали топить танкеры «третьих» стран в целях подорвать противнику торговлю нефтью.
37
Служба радиотехнической разведки.
38
5-я ОпЭск – оперативная эскадра ВМФ СССР, зона ответственности – Средиземное море.
39
Американский штурмовик палубного базирования A-6 «Intruder».
40
Американский многоцелевой палубный вертолёт SH-60 «Seahawk».
41
КУГ – корабельная поисково-ударная группа.
42
Мина имела уменьшенный заряд взрывчатки, не нанося особый вред судну, однако создавая эффект постоянной опасности и дестабилизации на одной из важнейших трасс мирового судоходства.
43
Речь идёт о ТАВКР «Минск» и сопровождающих его БПК «Петропавловск», пр. 1134Б, БПК «Способный», пр. 61, БДК «Александр Николаев», пр. 1174, шифр «Носорог», а также танкера «Борис Бутома».
44
«Догоняющие» СРК «Ревностный» и БПК «Николаев».
45
Ролкер (англ. Roll – катить) способен перевозить грузы на колёсной базе, а также использоваться как контейнеровоз.
46
Береговой патрульный, противолодочный самолёт Р-3С «Orion».
47
Советская дизель-электрическая подлодка проекта 641.
48
Энсин – звание во флоте США, стоящее ниже звания младшего лейтенанта.
49
«Аэродромами» называли модные на Кавказе кепки.