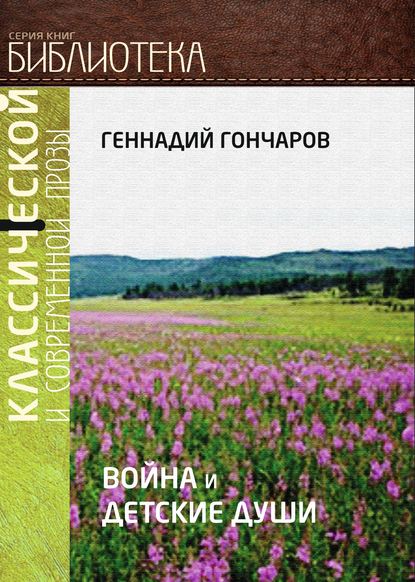Полная версия
Система
– На это есть диспетчер.
– У нас на железке – да. Все претензии к нему, если, конечно, жив останешься. А в жизни где этот диспетчер? Где и когда он тебе что скажет?!
– Надо тебе попроситься на новый маршрут, Дима, вот что! Сменишь обстановку.
– А что новый, это он первую неделю новый. Как фильм: когда смотришь первый раз – интересно, потому что не знаешь, что дальше. А потом, пересматривая, уже помнишь почти наизусть все кадры. Кадры-то старые, а ты другой. Мне нравится фильмы пересматривать. Спустя годы они вообще про другое оказываются. Ты же пересматриваешь старые фотографии? И каждый раз видишь их по-разному, так же и фильмы! Я не люблю фотографии, Фёдор, тоскливо это. После отпуска тебе отдают из ателье напечатанные фотографии и плёнку, и ты разматываешь эту плёнку, смотришь маленькие тёмные кадры подряд. Вот, ты только приехал, вот первый поход на море, потом какое-то кафе, с кем-то познакомился, играешь на пляже в волейбол, прыгаешь с пирса, катаешься на кораблике… ночные посиделки под открытым небом… а вот уже и уезжаешь… Двадцать четыре кадра или тридцать шесть – у кого сколько. Маленький кусок жизни в этих кадрах – какие-то удачные, какие-то не очень. И все они существуют одновременно. Так же и игра в футбол с мальчишками, и вот как мы сейчас сидели в кабине, и та зеленоглазая девочка на завалинке у серого домика, где так сильно пахло смолой от шпал, и которая вдруг первая взяла меня за руку… А стоп-крана нет! Как бы я хотел сорвать его на том кадре… Только я это хочу сейчас, а тогда ещё не понимал, что вот оно – настоящее, искреннее. И что другого не будет, что лучше не будет и что этот момент прошёл, его уже не вернуть. И стоп-крана нет…
Они надолго замолчали. На узловой станции продолжалась ночная жизнь, отцепляли вагоны, перегоняли локомотивы, диспетчеры говорили между собой, заполняя пространство гулким эхом.
– А если сейчас сорву – что будет? Да ничего… пустота. Поезд только остановится, и объяснительную писать будем. Поезд-то остановится, а жизнь продолжится – серая, невзрачная. И я устал от такой жизни, не представляешь себе как.
– Жениться тебе надо, вот что! – будто бы нашёл решение Фёдор, – где твоя девочка с завалинки, с зелёными глазами?
– Девочка выросла. Я не знаю, где она. Кажется, в Москве.
– Значит, найдём другую! Вот у нас у начальника вокзала помощница какая милая, сидит, на машинке стучит, а глаза всегда светятся. И замуж ей уже пора. И ты чем не жених? Будете прекрасной парой, прямо сказку про вас можно будет рассказывать: жили-были машинист и машинистка. Ты колёсами стучишь, она машинкой!
– Это всё мило, Фёдор, но, увы. Давай на мост пройдёмся, на огни посмотрим и песню споём. Мы уже такие пьяные, что самое время.
Они поднялись и, пошатываясь, побрели к мосту. Водка тепло и мягко растекалась по отяжелевшим мышцам. Были предрассветные сумерки, с земли поднимался туман, становилось зябко и неуютно. Они останавливались отдышаться на ступеньках, будто в раздумьях – идти дальше или этого достаточно, но пошли до конца.
– Дима, я вот песен никаких не знаю, не обижайся, но ты пой, я послушаю. Небо какое мрачное сейчас с этой стороны, а с той уже рассвет собирается. Смотри-ка! С красными прожилками – ветрено будет завтра…
– Почти всю ночь проболтали мы с тобой по душам. Мне кажется, я никогда ни с кем об этом и не говорил. Кому такое скажешь. Да и надо ли? Ты меня извини, Фёдор, за весь этот разговор – ни к чему это.
– Нормально всё. Выговорился и хорошо. На завтра легче будет.
Дима опустил голову и свесил руки с перил, глядя вниз на сплетающиеся рельсы. Фёдор облокотился спиной и стал смотреть на фонари. Неожиданно Дима запел тихим приятным голосом: «Отговорила роща золотая берёзовым, весёлым языком, и журавли, печально пролетая, уж не жалеют больше ни о ком…»
Фёдор стоял, опустив голову, слушал, как голос напарника смешивается с редкими гудками паровозов, шумом ветра, обрывками фраз диспетчера. «Стою один среди равнины голой, а журавлей относит ветер в даль…» Гирлянды огней мерцали на фоне тёмного неба, словно крупные звёзды, где-то вдали тоскливо скрипел локомотив. «Я полон дум о юности весёлой, но ничего в прошедшем мне не жаль…» Мелодия песни совершенно не вписывалась в звуки железнодорожного полотна. Она была здесь инородным звуком и будто пыталась вырваться из железных оков.
От этого возникала щемящая боль и дискомфорт, да так, что наворачивались слёзы.
«Не жаль мне лет, растраченных напрасно, не жаль души сиреневую цветь. В саду горит костёр рябины красной, но никого не может он согреть». А может, так действовала водка. Почему так горько от всего сегодня?.. Фёдор отвернулся, старясь не показывать своего лица, тёмные очки было бы совсем глупо сейчас надевать.
«В саду горит костёр рябины красной, но никого не может он согреть…»
Они долго стояли молча, глядя в разные стороны. Песня будто висела в воздухе.
– Послушай, Фёдор, ты хороший человек. Я тебя очень ценю и уважаю как напарника, как первого машиниста, как доброго товарища, да что тут говорить – как друга. Ты такой суровый мужик с виду, и чёрные очки этот твой вид дополняют. Ты дело своё хорошо знаешь, как никто. Никто тебя в трусости заподозрить не может. Держишься всегда молодцом, самые сложные перевозки выполняешь, ничего не говоря. Так и держись! И когда едешь с тобой – ты всегда такой уверенный, и знаешь: если этот парень в кабине, с составом ничего никогда не случится, у него всё под контролем, всё железно.
– К чему ты это, Дима? Ты совсем пьян, что ли?
– Ни к чему, просто чтоб ты знал, Фёдор, и не сомневался в себе никогда и не боялся ничего. Дай тебе руку пожму, – он крепко и долго жал руку Фёдора. – А теперь иди в гостиницу, я хочу один тут постоять немного. Так здесь смолой от шпал пахнет… Я постою ещё, подумаю. Такой день сегодня.

– Ты уверен?
– Да, нормально всё.
– Ну давай, догоняй, – Фёдор хлопнул его по плечу, развернулся и медленно пошёл своей уверенной тяжёлой походкой в сторону спуска. Он никогда не оглядывался, когда прощался, а тут вдруг, уже почти спустившись, почему-то оглянулся и посмотрел наверх.
– Дима, нельзя!!! Стой! Дурак!..
Его крик потонул в грохоте проходящего по соседнему пути товарняка.
Зелёный сундук
Это было давно. Я жила в большой коммунальной квартире. Одной из многочисленных соседей была женщина предпенсионного возраста. Она была совсем одинокая, у неё не было ни семьи, ни детей, даже друзей, по-моему, не было. В коммунальной квартире она держалась особняком, близко ни с кем не общалась, в разговоры и сплетни не влезала, из своей комнаты выходила редко, только по необходимости. Единственное, что про неё знали: она работает чертёжницей в каком-то закрытом НИИ и до пенсии ей остаётся около года.
Рядом с входом в её комнату стоял большой зелёный сундук, он с детства привлекал моё внимание, всегда хотелось вскрыть его и посмотреть, что же там такое хранится, чего нельзя было никогда посмотреть. Но мне говорили, что зелёный сундук принадлежит этой чертёжнице и трогать его нельзя. Я никогда не видела, чтобы она его открывала и что-то оттуда брала или, наоборот, прятала. По вечерам, когда все расходились по комнатам, женщина неслышно выходила из своей комнаты, садилась на этот сундук, доставала пачку папирос и курила, только красный огонёк изредка загорался в темноте. Потом так же тихо она тушила папиросу и уходила к себе. В моём представлении её жизнь проходила так: к восьми утра она шла на работу, ровно по звонку – закрытое заведение, у них там всё строго было, а вечером домой – в коммуналку. Телевизора у неё, кажется, не было, она слушала радио или читала, потом курила несколько папирос и ложилась спать. Следующий день проходил практически так же. На выходных она брала какую-то работу на дом, потому что я видела, как она приносила некие большие листы, свёрнутые в трубочку, и потом целый день сидела чертила что-то у себя в комнате.
Однажды она заболела. Никто сразу этого не заметил, потому что она и так была не очень заметная в нашей большой и шумной квартире. Я столкнулась с ней днём на кухне, чего никогда прежде не случалось в это время суток. Поздоровалась и, кажется, спросила: всё ли у неё в порядке, раз она днём дома. Она как-то засмущалась, заторопилась уйти к себе, ещё больше засмущалась и растерянно сказала, что заболела. Я предложила помочь – сходить в магазин или в аптеку. Она сухо отказалась и поспешила в свою комнату. Я не обиделась – видимо, когда человек ведёт такой замкнутый образ жизни, ему очень сложно вступать в какие-либо диалоги.
Вечером этого же дня я постучалась к ней в дверь и сказала, что собираюсь в магазин и может быть ей что-нибудь всё-таки нужно. К моему удивлению, она открыла дверь и даже впустила меня к себе в комнату, где я ни разу не была, и попросила принести какое-то лекарство, хлеб и молоко. С этого вечера мы с ней постепенно начали сближаться. Прошло ещё какое-то время, она уже поправилась, так же к восьми ходила на работу, возвращалась вечером домой, слушала радио и курила папиросы на своём зелёном сундуке, но в её жизни появилось что-то новое – иногда я выходила к ней вечером, тоже садилась на сундук и что-нибудь спрашивала или рассказывала. Обычно мы ни о чём серьёзном не говорили. Она отвечала всегда очень смущённо, односложно и, я бы даже сказала, немного нескладно, как человек, не имеющей частой практики разговаривать. Но меня её замкнутость привлекала каждый раз всё больше и больше. Мне было интересно, чем же живёт эта женщина, какой смысл её существования, может быть, он заключается в её работе – очень, наверное, нужной и ответственной, которая накладывает на неё такой отпечаток. Или, может быть, в её жизни когда-то давно случилась серьёзная драма или даже трагедия. Или она скрывает какую-то страшную тайну. А иногда я думала, что как-нибудь наберусь смелости, пусть это по-детски наивно и глупо, и спрошу про зелёный сундук, загадка которого так и не давала мне покоя с юных лет…
Как-то вечером я пришла посидеть с ней на сундуке, а она вдруг предложила пойти к ней в комнату. На столе у неё стояла бутылка шампанского и пирожные. Оказалось, что у неё день рождения. Я была очень удивлена этому факту – потому что она производила впечатление человека без возраста. И представить себе, что у неё есть такой вот день рождения, как у всех людей, представить, что она была когда-то маленькой девочкой, потом ходила в школу, потом в институт, была молоденькой, хорошенькой, весёлой… Я, кстати, никогда не слышала, чтобы она смеялась, хотя улыбалась она часто, правда, одними глазами и только совсем уголками губ, но это было очень искренне и тепло и очень ей шло.
Мы открыли шампанское. На улице была поздняя осень, слышен был редкий плеск холодной воды в ещё не замёрзшей реке, и мерцал тусклый фонарь под окном. Не хотелось бы оказаться сейчас там, где так холодно, темно и одиноко. В тот вечер я попросила её рассказать что-нибудь про её работу. И она, к моему удивлению, стала рассказывать с большим увлечением и чувством про работу в НИИ. Какие там серьёзные люди, какие важные разработки и эксперименты, как там всё строго и засекречено, и какую большую роль она там играет. Как она перечерчивает важнейшие схемы, в которых нельзя ошибаться, в них нет права даже на помарку. А если такое случается – помарка или клякса – надо чертить всё заново с чистого листа.
«Всю свою жизнь я работаю в этом НИИ, поначалу это было тяжело и даже занудно, но потом – это ведь такая красота, такая поэзия чертить схемы, пускай не я их придумываю, но в каждом чертеже я вижу не только замысел инженера, но и характер самого этого инженера, его мышление, его изобретательность, его интеллект, даже образ его жизни. Будто переписываешь некий концентрат его творческих мучений, поисков, разочарований, находок, цепочку его мыслей – это не просто чертёж, это практически тайный роман с этим человеком… Особо талантливые чертежи я копировала себе на память дома по выходным, эти шедевры я храню в зелёном сундуке, храню как редчайшие картины, как произведения искусства. Я помню их в деталях и восхищаюсь ими, но не имею права поделиться ни с кем – это всё-таки засекреченная информация. Даже по истечении времени они сдаются в архив, а потом и вовсе уничтожаются…»
Меня потряс её монолог, её трепетное отношение к такой, казалось бы, рутинной работе. Я вдруг посмотрела на неё другими глазами: ведь она не старая и вполне даже симпатичная женщина, могла бы иметь мужа, детей, уютный дом. А она посвятила всю свою жизнь и даже свободное от работы время копированию чертежей, даже не ею придуманных, но видела в этом такой смысл, такую необходимость и даже такую поэзию – просто удивительно. Слушая её, я сама вдохновилась этой красотой и смыслом.
Потом мы пошли посидеть на сундук, тайну которого я теперь знала и которая была наша общая теперь тайна, отчего этот сундук стал ещё прекраснее. Мы молча сидели, говорить что-либо ещё было лишним. Впервые в жизни я попросила у неё папиросу. В этот вечер в темноте единственный раз над этим сундуком загорались два красных огонька.
Прошло ещё какое-то время. Мы по-прежнему хорошо общались. Никому из соседей я ничего не рассказывала про всё, что я теперь знаю, хотя любопытство их всё больше возрастало.
Однажды она пришла с работы совершенно потерянная. Я никогда её такой не видела. Когда она закуривала папиросу, я увидела, как дрожат её пальцы.
– Что случилось? – спросила я.
Она долго молчала. Видимо, собиралась с силами. Потом произнесла:
– У нас на работе приобрели новый аппарат, он не засекречен, поэтому я могу тебе сказать. Он называется копировальный аппарат. Теперь он будет выполнять за меня мою работу. Надо заправить в него порошок, положить лист, что надо копировать, и нажать кнопку… и через несколько… секунд… он выдаст копию.
Я долго не могла найти, что сказать. Наконец спросила:
– Вас уволят?.. Или сократят?..
– Нет, мне остался месяц до пенсии, ко мне там все очень хорошо относятся, дадут доработать этот месяц. Месяц – заправлять порошок и нажимать кнопку… Вот он, прогресс цивилизации…
Она больше ничего не сказала. Докурила и молча ушла к себе. Я боялась себе представить, что происходит в душе у этой женщины. О чём она думала сейчас? Был ли смысл в том, чему она посвятила всю свою жизнь? Или: как ей жить теперь дальше? Зачем изобрели этот копировальный аппарат и, главное, привезли именно в это время к ним в НИИ, а не когда она уже выйдет на пенсию месяцем позже… От всех этих мыслей было как-то очень страшно.
Получалось, что вроде смысл есть везде, а, с другой стороны, – его нет нигде.
На следующий день она не пошла на работу, видно, так переживала, что даже заболела. Попросила меня купить ей папирос. Весь день она не выходила из комнаты, слышно было, что она там что-то делает: ходит, перекладывает, чем-то шуршит. Вечером она не пришла посидеть на сундук. Я не знала, что делать. Посоветовать что-то или помочь я вряд ли чем-то могла. Могла лишь выслушать и посочувствовать, но о чём тут говорить – заправить порошок и нажать кнопку может любой. Я прекрасно понимала, что её точит эта мысль и обесценивает весь смысл её работы и её жизни. Так лучше тогда совсем не лезть с сочувствием – ещё хуже будет.
Весь следующий день она тоже не выходила. Ночью, когда все уже спали, мне показалась, что кто-то ходит в коридоре, скрипит какая-то дверь или половицы, что-то шуршит. Я не стала выходить смотреть – это было бы неудобно. К утру всё затихло.
Утром я пошла стучаться к ней в дверь – никто не открыл. Наверное, спит, если это она ночью ходила. Днём она тоже не открывала, вечером не вышла посидеть на сундуке. Соседи тоже заметили неладное. Мы долго стучали, звали её, потом решили ломать дверь. Моё предчувствие подтвердилось – она умерла. Нет, она не покончила с собой и не умерла от какой-то болезни, я бы сказала, что она просто не пережила того, что с ней произошло.
Тихо и незаметно жила и так же тихо ушла.
Когда прошло сорок дней, я помянула её и вышла поздним вечером посидеть на зелёный сундук. В тот вечер я впервые заметила, что замка на нём уже нет. Я осторожно приоткрыла его – он был пустой, видимо, перед смертью она уничтожила все чертежи, которые там хранила, ведь они были засекреченные… На дне пустого сундука лежала помятая пачка с одной папиросой, может быть, она оставила, чтоб я выкурила её в память о наших вечерах на зелёном сундуке.

Белое сияние
Машина мчалась по пустынному шоссе. В окнах мелькал одинаковый зимний пейзаж с застывшими в инее деревьями и огромными сугробами. На правом сидении сидела большая добрая собака и улыбалась по-собачьи, свесив набок большой розовый язык. Почему-то ни одна радиостанция не ловилась, но было хорошо и так, просто нестись с огромной скоростью, слушать ровный рёв мотора и шуршание колёс по снегу. Кажется, никогда не было так свободно и хорошо, или, возможно, когда-то было, но так давно, что уже и не вспомнить.
Куда вела эта дорога, она не знала, и откуда ехала, тоже не могла вспомнить. Но это, как ни странно, нисколько не напрягало, а даже, наоборот, придавало поездке больший кураж. Собака вела себя спокойно, периодически преданно поглядывая в её сторону. Время словно остановилось, застыло вместе с зимним пейзажем. И если бы не мелькающие деревья, можно было подумать, что машина стоит на месте. В зеркалах отражалось солнце, немного слепило, но это было даже приятно – ведь солнце так редко и так недолго бывало последнее время.
Она попыталась прибавить скорость, но с удивлением заметила, что всё в этой машине было как на автопилоте, самой управлять было нельзя. «Надо же, как удивительно, – подумала она, – я за рулём, а от меня ничего не зависит, хотя есть и руль, и педали, и коробка передач!» Впрочем, и так хорошо, ни попутных, ни встречных машин нет, даже знаки не встречаются на пути!
Солнце впереди стало слепить ещё сильнее, превращаясь в белое сияние.
* * *Больничная палата казалась чудовищно унылой. Зеленоватые стены наводили тоску, резкие запахи вызывали тошноту. Вдобавок ко всему было холодно, и всё тело болело. Вокруг ходили люди в белых халатах с неприятно-равнодушными лицами. Меня подняли на руки и куда-то понесли. Я стала истошно орать, чтоб меня оставили в покое, но вместо слов получался пронзительный противный визг.
– У вас девочка, – сказал врач с неприятным лицом и положил меня рядом с какой-то женщиной.
Незнакомая женщина устало улыбнулась и попыталась меня погладить, от чего я стала визжать ещё громче. Руки и ноги мне не подчинялись, отчего было ужасно неловко и противно, и, как выяснилось, ни одну мысль и чувство я не могла выразить кроме как истошным визгом.
Куда делась машина, большая добрая собака? Ведь всё было так хорошо, а сейчас что? Неужели теперь надо всё сначала – учиться ходить, говорить?
Меня завернули в полотенце и куда-то понесли. Дальше я ничего не помню.
* * *Следующее воспоминание пришлось на раннее весеннее утро. Мама вела меня в детский сад. Было ещё темно и холодно, в лицо летел колючий снег. Я остановилась и заплакала, не знаю почему. Всё здесь мне не нравилось, а объяснить этого я не могла.
Так началась моя осознанная в какой-то степени жизнь.
Если бы я вела дневник, мне нечего было бы записывать, кроме малоинтересных и в основном малоприятных событий. В этом городе всё происходило медленно и замороженно, а точнее, вообще ничего не происходило. Все жили одинаковой серой жизнью: работа – дом или школа – дом. У взрослых по вечерам был телевизор, а по выходным – бильярд или дискотека. У детей и этих радостей не было. Можно было смотреть редкие мультики, которые показывали в самое неудобное для детей время, и играть во дворе. Играть приходилось недолго, потому что в этом городе всегда было холодно и темно. Перед походом во двор нужно было очень долго одеваться, а двигаться в таком количестве одежды было всегда затруднительно. После прогулки одежда была вся мокрая и перепачканная, на что мама всегда сердилась и в следующий раз уже неохотно отпускала гулять или запрещала вообще.
Моему старшему брату разрешалось гораздо больше, и я с завистью и уважением смотрела на него. Ждала, что, когда вырасту, будет как-то интереснее. А пока что брат играл со мной в свои мальчишеские игры по своим правилам, не считаясь с тем, что я младше и что я девочка. Мы дрались подушками, он выкручивал мне руки, переворачивал вниз головой, держа за ноги, стрелял в меня шариками из бумаги через трубочку, один раз засадил по голове камушком из рогатки, после чего его наказали. Брата я очень любила и позволяла ему делать со мной всё, что ему взбредёт в голову. С моей точки зрения, мы были с ним настоящие друзья, с его – я была для него просто игрушкой, только живой и иногда капризной.
Взрослые часто тогда говорили, что детство – это самое счастливое время. Не помню, чтобы я чувствовала и понимала это счастье в детстве, скорее всего, то время было ожидание чего-то: когда мама с папой придут с работы, когда будут мультики, когда брат захочет со мной поиграть в мои игры, и когда настанет, наконец, пора готовиться к школе, а значит, я уже стану почти взрослой, как брат. Я продолжала терпеливо ждать и надеяться, что дальше будет интереснее и лучше.
* * *После тягучего и унылого дошкольного периода настал наконец долгожданный момент, когда я пошла в школу. В первые две недели были смешанные чувства страха и восторга. Восторга, потому что я впервые видела так много детей, а страха, потому что они носились по коридорам и орали. А на уроках орали учителя, пытаясь успокоить наш самый шумный класс. На самих уроках я плохо понимала, что требуется делать, и сразу сильно отстала от класса.
Подружиться мне ни с кем толком не удалось – в компании отличников и хорошистов меня не брали, а троечников-хулиганов я боялась. На переменах я обычно скучала, забившись в дальний угол, а на уроках, если меня спрашивали, ещё больше стеснялась и мямлила.
В основном же я тихо наблюдала за сверстниками и учителями, пытаясь с каждым годом разобраться, что в ком мне нравится и на кого я хотела бы быть похожа.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.