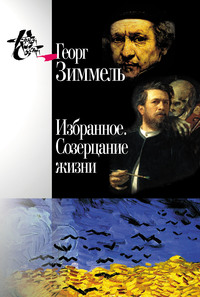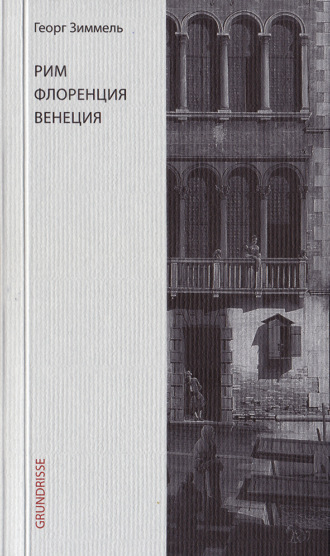
Полная версия
Рим. Флоренция. Венеция

Георг Зиммель
Рим. Флоренция. Венеция
© 2014, ООО «Издательство Грюндриссе»
Рим, эстетический анализ
1898
Глубочайшая притягательность красоты заключается, возможно, в том, что она всегда остаётся формой элементов, которые сами по себе нейтральны и даже чужды красоте и лишь в присутствии друг друга обретают эстетическую ценность; отдельное слово, как и одиночный цветовой фрагмент, строительный камень или музыкальный тон, подобной ценности лишены, и словно дар, который они сами по себе не заслуживают, над этими частностями простирается формообразующее единство, составляющее их красоту. Наше восприятие красоты как таинства, как чего-то, на что действительность не может претендовать, но что ей остаётся только смиренно принимать, – основывается именно на эстетической нейтральности элементов и атомов мира, каждый из которых становится носителем красоты только в сочетании с другим, а другой – в свою очередь – только в сочетании с первым, так что красота присуща им всем и в то же время ни одному из них по отдельности.
Мы привыкли к этому чуду: порой мы оказываемся во власти природы, которая с механической произвольностью формирует из собственных элементов и красоту, и уродство, а порой отдаёмся искусству, сводящему воедино те же элементы ради красоты. Крайне редко встречается третья возможность: произведения рук человеческих, созданные для каких-либо житейских целей, едва ли являют собой образец красоты, и то ничтожно малое стремление к красоте видится в их единстве столь же случайно, как и в творениях природы, которым неведомы вообще никакие цели. Разве что древние города, выросшие без предварительного плана, могут наделить эстетическую форму подобными смыслами; творения, которые отображают здесь людские цели и возникают только как воплощение духа и воли, представляют в своём соседстве ценность, выходящую далеко за пределы этих намерений и являющуюся по отношению к ним скорее как opus supererogationis[1]. Тот же счастливый случай, что располагает линии гор, цвет моря, ветви деревьев в соответствии с нашими эстетическими потребностями, проявляется здесь на материале, который сам по себе проистекает из случая и изначально несёт в себе цель и дух, пусть и не дух красоты; примерно так же обстоят дела и с поступками человека, в их основе лежат исключительно частные, ограниченные цели, однако вместе они служат осуществлению неведомого им божественного замысла.

Храм Весты. Конец республиканского периода. Фото конца XIX в. Рим.
В облике Рима такое счастливое срастание определённых какой-либо целью человеческих творений с новой, непроизвольной красотой приобретает высшую степень притягательности. Здесь бесчисленные поколения творили и строили бок о бок или одно вслед за другим, совершенно не заботясь о том, что их ждёт, а зачастую и совершенно не понимая этого, подчиняясь исключительно потребностям сегодняшнего дня и вкусам или настроениям эпохи; чистая случайность определяла тот общий облик, которому суждено было сформироваться из раннего и позднего, разрушающегося и сохраняющегося, сочетающегося и диссонирующего. И поскольку целое оказалось исполнено настолько непостижимого единства, словно некая сознательная воля соединила его элементы воедино ради красоты, сила его притягательности произрастает именно из этого резкого, но вместе с тем сглаженного контраста между случайностью частей и эстетическим смыслом целого; вот благоприятный залог того, что вся бессмысленность и дисгармония мировых элементов не воспрепятствуют их слиянию в силуэт прекрасной целостности. Столь уникальное впечатление Рим производит потому, что расстояния между временами, стилями, личностями, смыслами жизни, наложившими на город свой отпечаток, так велики, как больше нигде в мире, и потому, что все они тем не менее срастаются здесь в такое целое, стройное и гармоничное начало, какого больше нигде в мире не встретишь.
Все попытки проанализировать эстетическое влияние Рима с психологической точки зрения приводят к тому его центральному свойству, о котором, прежде всего, свидетельствует внешний облик города: из величайших противоречий, раздробивших историю высокой культуры, здесь возникло полное, органичное единство впечатления[2]. И как суть познания определяется формированием из фрагментарных и изолированных явлений чувственного восприятия понятной и взаимосвязанной картины мира, как нравственности полагается примирять между собой несочетаемые или же противоположные интересы, так один из основных мотивов эстетического удовлетворения заключается в том, чтобы распознать или создать из изобилия разнородных впечатлений, идей и побуждений единство. Если вообще стремление души превратить изначальное разнообразие вещей и представлений в гармоничное созвучие является отличительной и, наверное, основополагающей чертой человека, тогда, возможно, любое искусство представляет собой всего лишь отдельно взятый вид и форму, благодаря которым нам это удаётся, лишь один из путей от внешнего – а может, и внутреннего – разнообразия к внутреннему единству, и тем больше значимость каждого произведения искусства, чем разнообразнее условия его становления, его материал, круг его проблем и чем мощнее, плотнее и целостнее единство, в котором оно эти проблемы преодолевает. По степени напряжения между многообразием и единством вещей, которые позволяет нам видеть и чувствовать произведение искусства, можно было бы измерить его эстетическую ценность. В данном смысле Рим производит впечатление первостепенного произведения искусства. Исходной точкой служит расположение улиц, обусловленное холмистой местностью. Почти повсюду постройки отражают противостояние между верхом и низом. В результате они взаимодействуют друг с другом совсем не так, как если бы они стояли в одной плоскости, бок о бок. Вероятно, в этом и кроется загадка притягательности гористого ландшафта: каждый верх возможен как таковой только в сопоставлении с низом, а каждый низ – только в сопоставлении с верхом; тем самым части целого вступают в невероятно тесные отношения и целостность – здесь, как и везде, возникающая из взаимодействия частей – тотчас же становится очевидной. Там, где фрагменты ландшафта находятся на одном уровне, они более разобщены, каждый расположен сам по себе, тогда как в Риме один определяется другим. Так форме, по которой выстраивается Рим, удаётся преобразовать случайность, противоположность, беспринципность собственной архитектурной истории в визуально крепкое единство; через верх и низ безумные линии города получают направление, в то время как их несущие элементы представляются всего лишь частностями. Подобным образом развивается и динамика римской городской жизни: необычайная оживлённость затрагивает все её составляющие без исключения, какими бы древними, чужеродными или бесполезными они ни были. Любое, даже самое противоречивое явление будет затянуто в этот поток. Встраивание древних и древнейших осколков в поздние сооружения символично; иными словами, оно представляет собой застывший образ того, что динамика римской жизни отражает в текучей форме: построение собственного жизненного единства из несопоставимых элементов, которые благодаря интенсивности напряжения между собой возводят силу этого единства в непревзойдённую степень образности. Именно поэтому в Риме всё то, для чего, к сожалению, нет более подходящего понятия, кроме слова «достопримечательности», выглядит иначе, чем в других местах: не как изолированные, расположенные по ту сторону обыденного, бросающиеся в глаза точки притяжения, которые при необходимости могли бы находиться где угодно, но как части целого, каждая из которых, будучи связана всеобъемлющим единством Рима, органично взаимодействует с остальными. Поэтому и типичный турист в Риме кажется более невыносимым и неуместным, чем где-либо ещё: ведь его внимание сконцентрировано лишь на отдельных «достопримечательностях», сумма которых и означает для него Рим, а это равносильно тому, чтобы приравнять органическое тело к сумме его анатомических органов и пройти мимо самого процесса жизни, в котором каждый орган есть лишь звено всеохватного, всепроникающего, всевластного единства. Такой турист не ощущает красоты второй степени, основывающейся на красотах в единственном числе и возвышающейся над ними.

Театр Марцелла. I в. до н. э. Фото конца XIX в. Рим.
Слияние разительных отличий в одно целое, характеризующее пространственный образ Рима, не менее осязаемо в характере времени. Здесь возникает совершенно особенное, тяжело поддающееся описанию чувство, что расходящиеся пласты времени срастаются воедино и прорастают друг в друга. Говорят, что в Риме прошлое становится настоящим или наоборот: настоящее кажется столь чудесным, сверхсубъективным, устойчивым, словно оно превратилось в прошлое. То есть разными способами выражено то, что само по себе разных сторон не имеет: вневременность, единство впечатления, не позволяющее разграничить неотъемлемые, присущие только мыслящему сознанию понятия «раньше» или «позже». Разумеется, в Риме роль исторического пути ни на секунду не ослабевает. Но самое удивительное заключается в том, что и здесь, во временнóм измерении, кажется, будто элементы разошлись так далеко для того, чтобы ещё сильнее, проникновеннее, объёмнее продемонстрировать единство, к которому они всё же стремятся. Как в результате разрушения и благодаря ему остатки прежних времён обретают здесь новую форму, так же и повсеместное ощущение временной разобщённости представляется лишь некой эстетической особенностью современного облика; непрерывность эпох в Риме, неизменно наполняющая сознание своими образами, препятствует изоляции разобщённых во времени явлений; и в итоге окружающие предметы выходят на общий уровень, на котором противостоят друг другу исключительно по своему содержанию. Собственно благодаря невероятному растяжению временных отрезков, происходящему у нас на глазах, категория времени перестаёт иметь значение для отдельного предмета: он освобождается от каких-либо временных рамок и теперь воспринимается достойно вне таковых. Растворяясь в общем облике Рима, он приобретает поистине непосредственную жизненность; причём всё историческое хотя и участвует в этом, но не превращает объект в обособленный предмет антиквариата, вырывая его из настоящего, а ведёт себя, вливаясь в единство Рима, в соответствии со своим материальным содержанием – так, будто любая случайность истории исчезла и чистые, отвлечённые сущности вещей – говоря языком Платона, их идеи – выступают вперёд и наравне друг с другом.

Ворота Сан-Джованни. 1574. Фото конца XIX в. Рим.
Вероятно, именно это ощущение, которое лишь приблизительно можно описать словами, и лежит в основе глубокого высказывания Фейербаха: «Рим указывает каждому его место»[3]. Отдельный человек, осознающий себя внутри подобной общей картины, теряет место, отведённое ему его узким, закрытым историко-социальным кругом, и неожиданно оказывается участником и сторонником системы необыкновенно разнообразных ценностей, по которой он объективно должен мерить и себя. Словно бы в Риме с нас спадает всё, что придали нам временные условия согласно и вопреки собственно ядру нашего существа. Даже себя мы ощущаем так, будто в нас самих, как и в естестве Рима, не осталось больше ничего, кроме чистой силы и смысла. Мы не в состоянии противиться его объединяющей силе, сводящей вместе все предметы несмотря на пропасть времён между ними, и, в конце концов, мы стоим, точно в удалении от всего сиюминутного и здешнего, на том же расстоянии, что и всё остальное в Риме. Было бы бестактно с нашей стороны претендовать здесь на исключи тельность. Что же ещё так часто не пускает нас в то место, которое подходит нам по силе, широте и настроению души? – Случайности времени, преувеличения, которые, как и гнёт нашего исторического положения, изолируют нас и перекрывают мост к нашей внутренней родине, – в Риме всё это исчезает, потому что здесь, где все временно-исторические условия предстают в неотразимом величии и вместе с тем в полной и окончательной ничтожности, окружающие предметы для нас – а мы для них – имеют значение только сообразно с их собственной, вневременной, предметной ценностью. Так что Рим действительно указывает нам наше место, в то время как место, которое мы занимаем обычно, часто оказывается вовсе не нашим, а нашего класса, наших однобоких судеб, наших предрассудков, наших эгоистичных иллюзий. Разрушительный характер вышеописанного восходит к одной черте, определяющей общий облик Рима: к необычайному единству разнообразия, которое не только может устоять против высокой напряжённости отдельных элементов, но как раз из этой напряжённости и черпает ни с чем не сопоставимую силу. Так особенное очарование старых тканей объясняется тем, что общая судьба, солнечный свет и тени, сырость и сухой воздух привели за столько лет все противоречия красок к недостижимому иным путём единству и гармонии: можно сказать, что самые далёкие и чуждые друг другу явления, удалённые друг от друга по времени, происхождению и духу, через общее переживание, бытие в Риме и разделение его судьбы познают взаимное привыкание, изменение, слияние в столь чудесных соотношениях, что собственная значимость вещей достигает той же максимальной величины, что и значимость единства, в котором они срастаются в качестве составных частей.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Сверхдолжное деяние (лат.) – дела, которые не только доставили их совершителям вечное блаженство, но и составили «копилку» заслуг, из которой они могут быть заимствованы, согласно учению католической церкви, людьми грешными. Право распоряжаться этой сокровищницей принадлежит папе – он даёт индульгенции: ссужает излишние добрые дела тем, у кого их недостаточно. Концепция индульгенции была закреплена в 1343 г. буллой папы Климента VI.
2
Я позволю себе обойти вниманием части Рима, характеризующиеся сплошной современностью, а также сплошным уродством; к счастью, они расположены так, что при определённой избирательности новичков встречаются им сравнительно редко. В последний раз я видел Рим больше двадцати лет назад и, в главном, нашёл его изменившимся меньше, чем все утверждают.
3
Цитата из книги «Исповедь» (Ein Vermächtnis, 1925) немецкого художника Ансельма Фейербаха (1829–1880). Племянник Людвига Фейербаха. Долгие годы жил в Риме, который сравнивал со «старой волшебницей». Последние два года жизни провёл в Венеции.