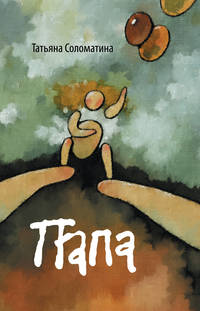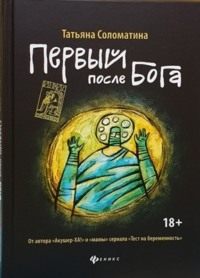Полная версия
Община Святого Георгия
Он взмок ещё более, дыхание участилось – сказывались эффекты вытяжек. Он будто бы вернулся в сознание, но оно отказывалось принимать открывшуюся реальность: ноги были на месте. В чужих брюках и барских ботинках, но это были его ноги. Он их чувствовал. Ощущал. К тому же властный, сильный, но мягкий и убедительный голос вещал:
– Видал?! Раз – и ноги! Смотри! А хочешь – ногу на ногу закинь!
И Белозерский закинул пациенту ногу на ногу.
Несчастный почувствовал, как он сам – сам! – закинул ногу на ногу.
– Внимательно! Гляди!
Александр Николаевич улёгся рядом с мужиком. Так же закинул ногу на ногу, а руки вальяжно устроил за головой. Мужик чуть подвинулся от доктора, ничего не соображая, кроме одного, зато самого важного на свете: он чувствует ноги, и они не пылают огнём! В голове смолкло шипение шимозы и проклятый набор слов, ритмически сопровождающий волны адских мучений, выветрился, исчез, иссяк, испарился!
Лицо его просветлело. Никто слова не мог вымолвить. Все стояли уже не просто затаив дыхание, а будто и вовсе дышать перестали. У них на глазах совершалось чудо, а простой русский человек очень чувствителен к чуду, уважает чудо, трепещет и благоговеет перед чудом.
Только молодой доктор продолжал говорить без умолку:
– Мы с тобой старые товарищи, лежим на берегу, пальцами шевелим! Дамочек приглядываем.
Не прекращая тараторить, Белозерский пошевелил пальцами в носках:
– Ты неженка, песок не жалуешь, так ботинки не снял! А пальцами – мы оба шевелим! Давай, шевели!
Голос доктора, такой добрый, такой уверенный, благодушный, но в то же время – командный, проникал мужику в душу и ложился гладко поверх собственных ощущений. Инвалид расплылся в широкой улыбке:
– Шевелю! Шевелю пальцами!
Первой счастливо рассмеялась Ася. Её нежный колокольчиковый смех поддержали, подхватили басы и баритоны, духовые и ударные. Ася захлопала в ладоши, и население палаты поддержало её, аплодисменты грозили перейти в овацию, кто-то крикнул:
– Качать доктора! Ай да Сашка! Ай да сукин сын!
Все, кто мог ходить хотя бы на оставшихся ногах и качать хоть в одну руку, в едином порыве потянулись к ординатору Белозерскому. Он был молод, строен, пружинист, и качать его было вовсе не сложно, особенно на эмоциональном подъёме, который только усиливался радостными восклицаниями освобождения от адовой муки:
– Шевелю пальцами! Не болит!
На заднем дворе клиники госпитальный извозчик лежал под каретой. Фельдшер Кравченко сидел у рамы на корточках. Здесь же был и профессор Хохлов, силясь разглядеть то, что показывал ему Иван Ильич. Будто разгляди он – проблема немедленно устранится.
– Я, Алексей Фёдорович, специально призвал посмотреть самолично! Вот, извольте видеть, раму следует менять!
– Я тебе и так верю, Иван Ильич! Но где ж я тебе ту раму возьму?!
– Где взять, профессор, я знаю. Вы денег дайте, и я возьму в лучшем виде, незадорого, неновую, но справную.
– Ритор! – саркастически изрёк профессор, догадавшись наконец распрямиться. И тут взгляд его упал на Кравченко, отметившего реплику едва заметной улыбкой.
– Вы, Владимир Сергеевич, руководите бригадой и всеми этими делами. Не для того, чтобы они меня почём зря…
Из-под кареты донеслось скрипучее, недовольное, оскорблённое в самых лучших чувствах:
– «Они»! Вот тебе, Иван Ильич, и за верность! Вот тебе, Иван Ильич, и за службу! Вот тебе, Иван Ильич, ты уже и «они»! И «почём зря» тоже вот тебе, кушай на здоровьечко!
Алексей Фёдорович обратил молящий взор к фельдшеру, старавшемуся не рассмеяться. Но не успел Иван Ильич со вкусом разобидеться, только подбираясь к порогу ража, как из клиники выбежала Матрёна Ивановна.
– Алексей Фёдорович! Опять ваш Белозерский!
– Что «опять ваш Белозерский»? – слишком театрально, ничуть не уступая в актёрском мастерстве Ивану Ильичу, профессор нацелил всё своё внимание на старшую сестру милосердия, донельзя обрадовавшись её явлению, дававшему ему возможность избежать объяснений с уязвлённым извозчиком.
– Известно, что! Чудит!
Хохлов размашисто зашагал в клинику, Матрёна засеменила за ним, кивая и поддакивая. Профессор закипал:
– Неслыханное!.. Неслыханная!.. Ты ему – вдоль! – он тебе – поперёк!
Когда поступью командора Хохлов зашёл в палату, грозный и возмущённый, а за ним мелким бесом залетела Матрёна Ивановна, Белозерского качали. Он пребывал на вершине блаженства. Он чувствовал себя победителем. Да что там – чувствовал! Он и был победителем! И наглядным подтверждением его победы было то, что пациент, которого круглые сутки мучали чудовищные боли, лежал на кровати румяный, восторженный, без облачка недомогания на лице, и громко торжествующе ликовал:
– Шевелю пальцами!
От неожиданности Белозерского выпустили из рук, но он ловко приземлился, да и калеки не слишком высоко его подбрасывали. Немного полежав в картинной позе, нарочито выждав, покрасовавшись триумфом, Белозерский подскочил с пола и столкнулся с пылающим взором Хохлова, скромно потупив глазки.
– Профессор, простите! Я взял ваши брюки!
Выдержав паузу, ординатор торжествующе огласил:
– Но изобрёл способ купировать приступы фантомной боли!
Сашка не мог понять, отчего Алексей Фёдорович не разделяет радость его победы. Неужто из научной ревности? Не может быть! Профессор Хохлов для этого слишком… профессор! Учитель воистину академичен. И не может не разделять успех ученика. Но вот он перед ним лишь яростно раздувает ноздри, голос строг, тон холоден:
– Прошу вас пройти ко мне в кабинет!
Приложив руки к груди, Белозерский поклонился притихшей аудитории и последовал за Хохловым как был, в носках. Несмотря на таковую реакцию обожаемого учителя, он был счастлив. Ничто не могло омрачить его радости. Вот оно, великое свершение Александра Николаевича Белозерского! Его ликторский пучок, его оливковая ветвь! Нет, безвкусный герб Витте копировать не стоит, это пошло, к тому же геральдика должна соответствовать заслугам. Надо подробнее изучить вопрос чуть позже, когда его работа будет признана, найдёт широкое внедрение и возведёт фамилию Белозерских в потомственное дворянство! Разве в серебряной главе щита пусть будет три червлёных абрикосовых цветка, как дань делу предков, обогатившему семью. Александру Николаевичу осталось лишь раздобыть доблесть.
Оглянувшись, он подмигнул замершей Асе. Пациент тем временем не замечал ничего. Ему наконец не было больно.
– Я чувствую ноги! Они есть! И они – не болят!
Хохлов обернулся, с состраданием оглядел мужиков, траченных войной. Они, кажется, гораздо раньше образованного Белозерского сообразили последствия. Жизненный опыт, тяжёлые испытания – всё то, что выпадает щедро простым людям, гораздо раньше обучает вот чему: обман – никогда не спасение, фальшь – никогда не избавление. Или правда. Или смерть.
– Анна Львовна! – пустым надломленным голосом, будто звуки давались ему с трудом, распорядился профессор Хохлов: – Не дайте пациенту прикоснуться к вашим… декорациям!
Ася испуганно кивнула, присев в книксене.
В профессорском кабинете Белозерский устроился в уголку, в роли скромного победителя, вынужденного выслушивать нотацию от вышестоящего. Хохлов по своему обыкновению расхаживал, яростно жестикулируя, обращаясь к ученику на повышенных тонах:
– Вы думаете, ординатор Белозерский, до вас сообразительные люди не рождались?!
– Рождались, профессор! – покорно поддакнул Александр Николаевич.
– Вы считаете, прежде никогда не размышляли, как победить фантомную боль?!
– Размышляли, профессор!
– Вы полагаете, никто не был таким же дураком, как вы?!
– Был, профессор, – как можно тише и подобострастней произнёс Белозерский.
Хохлов осёкся и свирепо глянул на ученика.
– Остроумец! Всё-то тебе кажется, что жизнь – это искромётный бурлеск! А между тем наш Иван Ильич уж куда остроумней тебя будет. Парадные портки ещё взял! Мне вечером в театр, – и профессор снова махнул рукой, подумав, что ампутирует мерзавку, если она не перестанет своевольничать.
Белозерский, вообразив, что вожжи ослабли, а гнев иссяк, обратился к профессору горячо, с огромным воодушевлением:
– Алексей Фёдорович, сработало же! Я нигде о таком не читал…
– Потому и не читали, молодой вы идиот! – взвился профессор. – Потому-то и не читали, что не работает!
– Но как же? – опешил Саша. – Вы же собственными глазами видели: боль ушла!
– Мой мальчик, это фокус! Трюк! Вы бы малышу подсунули ловко свёрнутый фантик, в котором нет конфетки?
– Бог с вами, профессор! Я вырос из подобных глупостей…
Он вдруг осекся. До него дошло, что именно подобную глупость он и совершил. Хохлов глубоко вздохнул:
– То-то же! Малыш расплачется, обнаружив фальшивку, и только. Нейрофизиология – не ярмарочный балаган! Мозг – не малыш! Наш мозг – монстр! Когда он сообразит, что его подло надули, он отомстит. Вдвойне! Втройне! Вдесятеро!
Белозерский внезапно стал похож на дитя, которому открылись сразу все несправедливости мира и его собственное бессилие перед ними. Профессору стало жаль ученика. Он чуть было не перестал сердиться. Но педагог взял верх. И вместо того чтобы сказать что-то поглаживающее, профессор хлёстко выкрикнул, стараясь разогнать себя до жестокости к безответственному юнцу:
– Ты мне ангельские глазки не строй! Потому что мы с тобой сейчас, человек с человеком, пойдём и поглядим, что ты – человек! – сотворил с человеком же! Ты, врач, должен понимать, что медицина – это прежде всего ответственность! Теперь из-за ваших вытяжек персонал будет сбиваться с ног. А главное – пациент испытывать ещё более тяжкие мучения! Благодарю покорно!
Хохлов в пояс поклонился Белозерскому, который бы заплакал, не будь он мужчиной. Профессор схватил его за руку и поволок из кабинета обратно в палату.
Несчастный глухо ревел и метался по кровати. Фальшивые ноги были смяты, сбиты и окровавлены. И студенты, и пациенты, могущие оказать помощь, удерживали его. Матрёна набирала в шприц камфору, Ася с ужасом наблюдала, не зная, как подступиться к культям – они снова нуждались в обработке, страдалец сорвал повязки. Вошедший Концевич решительно подошёл к койке, скрутил салфетку и всунул её между зубов инвалида, окрикнув сестру милосердия:
– Он зубы крошит, как карамель! Что вы застыли?! Вам всё с рук не сойдёт, как Белозерскому!
– Зачем вы так, Дмитрий Петрович? Александр Николаевич хотел как лучше. Он хотя бы попытался!
– То-то теперь хорошо!
В палату вошли решительный Хохлов и понурый Белозерский.
– Фиксируйте простынями! – крикнул профессор Матрёне. – Наркотик не раньше чем через час! Убьём!
– Камфору я ему ввела. Сердце иначе не выдержит!
Студенты, Концевич и Ася принялись вязать обезумевшего. Почему-то пока не явился профессор, никто не сообразил. Хотя это было очевидно. И только Белозерский подошёл к стене, уселся на пол и всё-таки заплакал, проклиная себя. Он уронил голову на колени и накрыл её руками. В этот момент рядом с ним с сухим стуком упали его балморалы. И склонившийся Алексей Фёдорович прошипел со странной смесью злости и сочувствия:
– Обуйся! Ты врач, а не шпана! Наделал делов – разгребай! А не товарищи за тебя. И… И не показывать пациентам и персоналу, что ты живой человек, состоящий из незнания, ошибок и чувств! Всегда сохранять присутствие духа! Не сметь раскисать при неудачах!
Глава V
Покинув клинику, Вера Игнатьевна решила прогуляться, дабы привести в порядок смятённые чувства. Ей казалось, что она привыкла ко всему, что нет ничего, что могло бы её ранить, уязвить или попросту взволновать. Но отказ старого друга и любимого наставника неожиданно болезненно уколол. Она понимала причины, осознавала, как мучительно далось это Алексею Фёдоровичу, но доводы разума не приносили облегчения. Вот уж воистину самая загадочная из фантомных болей, преследующая человечество! Возможно, не всё, лишь некоторую его часть. Но и самый подлый, самый низкий человечишко порой нет-нет да и воскликнет: «Душа болит!» И воскликнет, бывает, искренно, не стилистического эффекта ради. А это же совершеннейший оксиморон! Нет души, не нашли её, не видно. Но болит другой раз похлеще спины, сорванной на войне.
Ноги сами привели её на Набережную. И только увидав в стельку пьяного безногого инвалида, полного кавалера Георгиевских крестов, она поняла, что пришла не просто так. Вера могла обойтись без многого, даром что княгиня. Единственное, без чего она ощущала немалый дискомфорт, – это цель. Без этой вожделенной штуки, идеального бессознательного стремления, достижимого лишь в парадигме реального сознательного преднамеренного процесса, Вере было чудовищно неуютно. А именно сейчас жизнь казалась ей бесцельной. И это было ужасней безденежья и отвратительней безделья.
Потирая ноющие культи и щедро прихлёбывая из фляги, калека, стекленея, со злобой таращился в проходящие штиблеты и дамские ботиночки.
– Гуляют господа и дамы, мать их за ногу! Ногами гуляют, крысы тыловые!
Вера присела на корточки напротив и, глядя прямо ему в глаза, насмешливо продекламировала:
– Не торопись дочитать до конца Гераклита-эфесца. Книга его – это путь, трудный для пешей стопы, мрак беспросветный и тьма. Но если тебя посвящённый вводит на эту тропу – солнца светлее она[3].
– Я тебя хорошо помню, Ваше высокоблагородие! Уж лучше б ты меня помирать бросила, чем обрубком сделала!
Вера кивнула на крупные, хорошо контурированные бицепсы.
– Руки-то целы!
Сняв сюртук, положив его на асфальт и усевшись поверх по-турецки, она закатала правый рукав рубахи.
– Схлестнёмся?
– С бабой?! – язвительно усмехнулся Георгий, сплюнув на сторону.
– С бабой, с бабой!
Достав портмоне, она вытряхнула золотую пятирублёвую монету.
– На кон.
Жадно глотнув из фляги и встряхнув её – оставалось маловато, – Георгий не оставил иронический тон:
– Я-то что поставлю?! То, что поутру подали, Ваше высокоблагородие, уже того-с! Что не пропил, в кости спустил.
– Азартному человеку всегда есть что поставить.
– Что же?
Георгий красноречиво окинул взглядом свой нищенский скарб и тут же схватился за кресты, будто прикрывая их от мира.
– Доблесть не предмет игры, это святое, на неё не посягну! – серьёзно сказала Вера. – А вот твоя жизнь, как я погляжу, не особо для тебя ценна. Её и ставь.
– Жизнь?
– Да. Свою жизнь. Ставишь?
– Да на что вам моя жизнь?! – презрительно усмехнулся инвалид.
Пожав плечами, Вера с насмешкой бросила:
– Тебе всё равно больше нечего ставить.
Глянув на золотой пятирублёвик, затем скептически оценив с виду такую изящную руку княгини, уже выставленную наизготовку на ящик, Георгий всё одно медлил. Как подхлестнуть игрока?
– Бабы боишься или жизни жалко?
– Япошек не боялся и жизни никогда не жалел! Раз Ваше высокоблагородие изволит порукоборствовать, наше вам!
Материализовался мальчишка-газетчик, мигом организовавший тотализатор среди зевак. Он же взялся командовать поединком, шустрый малец. Вера сделала знак: момент! – и, скинув шляпу на мостовую, встряхнула волосами. Публика испустила хоровое «ах!».
– Готовность! – возвестил мальчишка.
Княгиня и бывший унтер стали на изготовку по всем правилам древнего, вовсе не шуточного искусства рукоборства.
– Марш! – крикнул пацан.
Самый выдающийся военный хирург современности, ныне опальный, и унтер-офицер, полный кавалер Георгия, теперь нищий калека, схлестнулись в нешуточном армрестлинге. Здесь не было ни чинов, ни сословий, ни заслуг, ни последствий, но лишь чистый азарт честного соревнования. Что-то из тех времён, когда на святки тысяцкого Москвы, а то и самого великого князя мог одолеть простой кузнец, и оба после валились в сугроб, хохоча и не выпуская друг друга из медвежьих объятий. Или ещё туда, глубже, дальше в века, когда норманн, викинг, варяг – должен был уйти зимовать в одиночестве в завершение своего взросления и, может статься, сразиться сам на сам с медведем. Или же приручить его, как Сергий Радонежский. Честная битва достойного с достойным. Достойная битва равного с равным.
Нахрапом взять Веру Георгию не удалось. Хотя он навалился на неё в прямой мужицкой манере, верхом, атакуя захватом с агрессивной пронацией. Вместо ожидаемой женской ручки Георгию противостояла сталь. Долгое время они сохраняли равновесие, будоража толпу. Но вот будто бы грубая мужская сила начала брать верх. Совсем немного оставалось Георгию до победы. Он взмок, хрипел и гипнотизировал сжатые в замок ладони. Вера же оставалась спокойной, хладнокровной и смотрела скорее в никуда, нежели куда-то конкретно. И в тот момент, когда болельщики уже не чаяли иного исхода, кроме единственно верного в рукоборстве дамы и солдата, княгиня незаметно, чуть подвернув запястьем, моментально уложила руку Георгия.
Толпа взревела. Раздались аплодисменты. И оскорбительный свист в адрес Георгия.
– Концентрация, друг мой, концентрация! Ты совсем не умеешь концентрироваться! – шепнула Вера, наклонясь за шляпой. – И пренебрегаешь техникой трицепса. Научу.
Георгий сидел как оплёванный. Зеваки расходились, большей частью разочарованные. Мальчишка-газетчик, поимевший гешефт, и тот сплюнул под ноги, несмотря на то что горячо любил Георгия:
– Тьфу! Бабу положить не смог!
Вера протянула Георгию руку. Он сидел, будучи не в силах посмотреть на неё. Она пожала плечами.
– Неспортивно! Как хочешь, но уговор дороже денег!
И, ухватив левой его правую, она насильно пожала ему руку, чётко выговорив прямо в лицо:
– Баба этими самыми руками волокла под огнём с поля боя на левом плече генерала Гурко, на правом – тебя, не для того, чтобы…
Резко оборвавшись, она выпустила руку Георгия из захвата. Он откинулся от неожиданности. Легко поднявшись, Вера проговорила уже безо всякой страсти, ровно, как человек, привыкший командовать, а более всего привыкший к тому, что его командам подчиняются:
– До вечера. Приду – чтоб здесь был!
Оказалось, несколько бездельников ещё стоят, разинув варежки.
– Расходимся, дамы и господа! Ножками расходимся! – гаркнула Вера не хуже заправского ротного. И тех как ветром сдуло. Только мальчишка-газетчик смотрел на неё во все глаза. Дети так легко заводят кумиров!
– Как звать?
– Кто звал, тот и знал! – огрызнулся мальчишка.
Чтобы не задавалась. Подумаешь!
– Тогда кыш отсюда!
Вера выписала мальцу лёгкий, но ловкий пинок по филею.
– Присмотри за ним! – крикнула она.
– Чего за ним смотреть! – пробурчал Георгий, чтобы просто что-то наконец сказать, удостовериться, что не лишился дара речи.
– Я не тебе!
Вера Игнатьевна отчалила.
Чем она занималась целый день – бог весть. Человеку, сошедшему поутру с поезда Москва – Питер, наверняка найдётся чем заняться. Человеку довольно видному. Хотя любому видному человеку не составит ни малейшего труда затеряться. Видные люди редко походят на газетные дагерротипы, и любая кафешантанная певичка всегда более знаменита, нежели действительно видный человек. Таков удел. И не сказать, чтобы видные люди не довольствовались оным. Быть видным почётно, создавать видимость – суетно. Быть видным – самобытность. Видимость – постоянная потребность быть частью чужого быта, неутолимая жажда, что-то на манер сахарного мочеизнурения, фатального сбоя обмена веществ. Видимые легко вычисляются по ацетонному смраду. Чистое дыхание видных гармонизирует мир, не являя себя ему.
Завершив свои невидимые дела, Вера Игнатьевна возвращалась на Набережную. Как это ни удивительно, сейчас она находилась в гармонии с миром и с собой, хотя дела её не были хороши. Но так неожиданно приятен был светлый вечер, так спокойна и беззаботна мирная жизнь. Нарядные дамы и господа не перебегают под взрывами, а прогуливаются, расправив плечи. Лошади не вздымаются к небесам в предсмертной агонии, путаясь в собственных кишках, а чеканят подковами булыжник, гордясь своей профессией. Приятны чистые экипажи. Невероятно мил грустный молодой человек, помахивающий докторским саквояжем. Какая печаль может тревожить столь совершенное молодое тело?
Внезапно выстрел разорвал невозмутимое течение Вериных мыслей и мирного светлого питерского вечера. Возмущённо заржали лошади. С визгом кинулись в разные стороны чистенькие дамы и господа, сгущая опасность. Страх всегда превращает толпу в угрозу. Ещё один выстрел… Свисток городового…
По обыкновению рефлексы тела сработали слаженней прописей мозга. Вера обнаружила себя у экипажа, из распахнутой дверцы которого сползал грузный мужчина, показавшийся ей смутно знакомым. По белой фрачной сорочке расплывалось кровавое пятно. Городовой поймал свечащих коней под уздцы, не переставая издавать истошные трели. Вера нагнулась к мужчине. Ухватив её за рукав сюртука, он прохрипел:
– Дочь! На руках сидела…
Вера поняла быстрее, чем он договорил. Кивнув, она опустила его на тротуар. Он с облегчением закрыл глаза. Последний вздох его был спокоен: он передал полномочия. Он понимал – кому. Он был из тех, кто знает видных. Если кто-то и мог спасти его Соню – исключительно она. Он умер спокойным. Он упокоился с миром.
Вера уже была внутри. Её взору предстала девочка лет семи в праздничном белом платьице, крепко сжимавшая в ручке плюшевую собачку. По лифу растекалась алая кровь. Девочка была без сознания, но жизнь ещё не оставила её. Вера моментально разорвала ткань и погрузила указательный палец правой руки в глубокую рану детской груди. Отныне и до исхода в распоряжении Веры была только левая рука. Но если хирург не амбидекстр – то дрянь он, а не хирург. Легко подняв девчонку левой, Вера, пятясь, спустилась с экипажа.
У тела грузного мужчины присел тот самый молодой человек, вызвавший интерес княгини. Вероятно, не столько статью и красотой – он был молод для неё, – сколько докторским саквояжем и тем удивительно детским выражением лица, иногда случающимся у сильных и цельных мужчин. Когда их, конечно, никто не видит. А где можно пребывать в большем одиночестве, нежели в толпе?
– Я доктор! – торжественно объявил Белозерский – а это был именно он, – увидав молодого человека.
– А я всё больше по слесарным работам! – саркастически усмехнулся «молодой человек», обернувшись.
На долю секунды Белозерский онемел. Он моментально узнал княгиню. Это её он ненавидел и любил, не будучи знакомым с ней, хотя и очень надеялся когда-нибудь быть представленным, и завоевать, и… Это же звезда военно-полевой хирургии Русско-японской кампании!
Сейчас у неё на левой руке лежала девчонка, а правая рука женщины его мечты была опущена в детскую плоть, разодранную огнестрельным ранением. И всё это в обрамлении кровавых лохмотьев у композиции «мёртвый мужчина в луже крови», под свист городового и ржание перепуганных коней. Грезивший подвигами Сашка Белозерский не так представлял себе знакомство с этой недостижимой, непостижимой царицей. На балу. В салоне. На каких-то пошлых наборных зеркальных паркетах, в мерцании свечей, у камина. Канделябрами бредил, срам какой-то! Представлялось, как он, во фраке, рекомендуется…
– Лёгочная аорта! Пневмогемоторакс! Ближайшая больница! Чёрт, не успеть! – разметала Вера жалкие остатки его грёз.
Скорее среагировав, чем сообразив, Белозерский залихватски свистнул, перекрывая трели городового, и выбросил вверх руку с зажатыми в кулаке ассигнациями. Немедля подкатила пролётка. Вера вскочила в экипаж, он запрыгнул к кучеру.
– Лихо домчишь – все твои!
Извозчик не заставил повторять дважды и, с оттяжкой стеганув лошадку, поднял её в галоп. Никто и не заметил, что девочка выронила собачку, и та теперь промокала кровью её отца.
Городовой, устав дуть в свисток, лишь всплеснул руками, чуть не выпустив лошадей:
– Тпру, любезные! Кучер-то ваш куда подевался? Малышку что за субчики уволокли? Что я сыскным скажу, господи?!
Возбуждённый озвученными, крайне неблагоприятными для себя обстоятельствами, он стал свистеть с утроенной силой.
Глава VI
Вбогатом особняке царил покой. В огромном белом фойе, украшенном лепниной, мраморными и бронзовыми статуями – всё работы известных мастеров, – зеркалами, панорамными окнами и роскошными дверями, стоял белый рояль. В полукресле Генриха Даниэля Гамбса, вещи уже не только дорогой и винтажной, но в некотором смысле исторической, скрестив вытянутые ноги, сидел Василий Андреевич, олицетворение и дух дома Белозерских. Назвать его старшим лакеем значило бы нанести смертельное оскорбление. Дворецкий и мажордом, равно и управляющий хозяйством, тоже категорически отвергались Василием Андреевичем. Более всего его слух ласкало английское слово butler, глава дома. Он обладал всеми качествами, необходимыми для столь значимой должности. Он был надёжен, как сварной дамаск в крепкой умелой руке. Он был предан, как пёс, и способен хранить тайны, как рыба. Он считал семью Белозерских своей, и так оно и было на самом деле. Белозерскому-старшему частенько казалось, что Василий Андреевич являет собой не главу дома, а именно что главу семьи. Это Николая Александровича иногда раздражало.