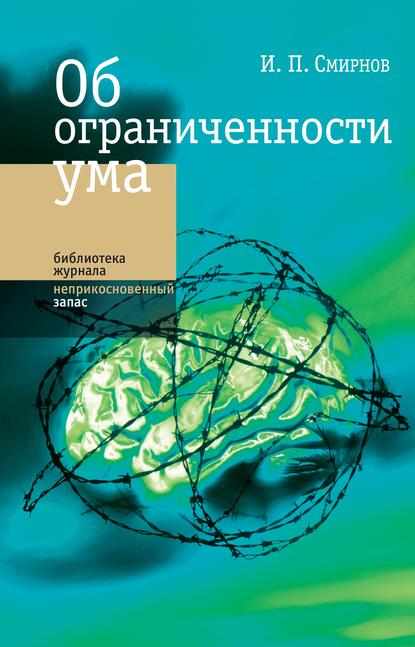Полная версия
Искренность после коммунизма: культурная история
Особая благодарность Илье Кукулину и Марку Липовецкому. Вдохновляющий разговор с ними – в течение дня, проведенного в поезде, а потом и в других местах – сильно повысил мою чуткость к размышлениям об искренности позднесоветских и современных российских писателей и художников. Мартье Йансе, Брехту Ламерису, Судхе Раджагопэлену и Йенни Стеллеман я благодарна за богатые и полезные комментарии к отдельным главам. Оле Рябец и Линеке Лейт благодарю за тяжелую охоту за изображениями. Ксению Галяеву благодарю за дружбу и за тонкое шестое чувство, помогающее найти релевантные тексты, фото и клипы.
За поддержку русского издания книги, работу над ней и за терпение сердечно благодарю Илью Калинина, Татьяну Вайзер и Ирину Прохорову; за русский перевод – мой глубокий поклон Андрею Степанову.
Кроме помощи академических и редакционных экспертов, мне также сильно помогли доработать мои аргументы практики современной культуры. Благодарю за время и энергию, вложенные в заполнение анкеты, краткую фейсбук-заметку или многочасовое интервью за ужином, Сашу Бродского, Надежду Бурову, Дмитрия Воденникова, Сергея Гандлевского, Дмитрия Голынко-Вольфсона, Аллу Есипович, Хэллу Йонгериус, Тимура Кибирова, Дафнэ и Веру Коррелл, Сергея Кузнецова, Олега Кулика, Джейсона Момберта, Антона Осмоловского, Ольгу Паволгу, Евгения Попова, Андрея Пригова, Льва Рубинштейна, Владимира Сорокина и Дашу Фурсей.
За институциональную поддержку я признательна NWO (Netherlands Scientific Organization) за возможность провести исследовательский проект Rubicon/Reclaiming the Reader, на выводы которого опирается книга. NIAS (Netherlands Institute for Advanced Study) я признательна за возможность работы над русской версией книги. Университет Кембридж, Пембрук-колледж, Кембриджский Centre for Research in the Arts, Humanities and Societal Sciences, Университет Бергена, Университет Амстердама, ASCA (The Amsterdam School for Cultural Analysis) и Амстердамский Boekman Bibliotheek предоставили вдохновляющие интеллектуальные возможности, поддерживающие меня в то время, как я проводила свои исследования. А за очаг в самом глубоком значении этого слова благодарю Томаса ван Далена, Ульви ван Дален и ее четвероногих собраток – Гарибалди и Фатитути.
ВВЕДЕНИЕ. ИСКРЕННОСТЬ, ПАМЯТЬ, МАРКЕТИНГ, МЕДИА
А. Ш. (12:46): Новая искренность.
bordzhia (12:47): В смысле?
А. Ш. (12:48): Такая теория… после постмодернизма придет новая искренность. Полный отказ от всех литературных клише и игр во имя адекватного самовыражения.
bordzhia (12:48): А рифмы там сохраняются?
А. Ш. (12:49): Ну, иногда да, сохраняются. Очень простые.
А. Ш. (12:49): А иногда не сохраняются.
bordzhia (12:49): Что поделать? Если уж она придет…
А. Ш. (12:49): Тотальная искренность.
А. Ш. (12:49): Кошмар такой.
А. Ш. (12:50): Отключаюсь. У нас тут очередь.
bordzhia (12:50): До связи48.
Этот разговор, произошедший 8 декабря 2007 года между двумя участниками чата, свидетельствует об устойчивой тенденции в современной культуре. Я имею в виду тенденцию определять литературные, художественные и иные культурные практики как знаки нового духа времени – некий Zeitgeist, который описывается понятием «новая искренность». Люди с самым разным социальным и профессиональным профилем – блогеры и кураторы, ученые и поэты, философы и рекламщики, кино- и литературные критики, художники – понимают это словосочетание как позднепостмодернистскую (или постпостмодернистскую) философию жизни и культуры. «Новая – до мозга костей – искренность», «сплошная новая искренность» – подобные фразы постоянно всплывают в сетевом общении и печатных медиа.
Указать на карте мира, где именно происходят эти разговоры о новооткрытой искренности, сложно. В дискуссиях о новой культурной ментальности к выражению «новая искренность» прибегали в таких разных странах, как США, Эстония, Франция, Великобритания, Германия, Нидерланды и Китай49.
В данной книге анализируется современная риторика искренности и ее глобальные аспекты. При этом особое внимание уделяется одной стране, в которой образованное сообщество особенно часто обращается к теме возрождения искренности как манифестации позднего или постпостмодернизма. Это Россия, история которой отмечена исключительным интересом к понятию искренности. Интерес этот не исчез и в постсоветской России. На протяжении последних лет при поиске в блогах всегда оказывалось, что русское словосочетание «новая искренность» употребили совсем недавно: несколько дней, а иногда несколько часов назад50. Русскоязычные блогеры, политики, культурологи сегодня пользуются этим понятием для объяснения ностальгии по советской эпохе, путинской медиаполитики или российского вторжения в Украину51; антрополог Алексей Юрчак указывает на «искренность» как на главный эстетический модус «постпосткоммунистического» искусства в области анимации, визуальных искусств и музыки52; художник-перформансист Олег Кулик считает, что «новая искренность» – центральное понятие современного российского искусства53. В области литературы – главной темы этой книги – на новую искренность как на важный культурный тренд указывают такие известные исследователи культуры эпохи перестройки и постсоветской России, как Светлана Бойм, Михаил Эпштейн и Марк Липовецкий54.
АКЦЕНТ НА ИСКРЕННОСТИ
Что же представляет собой эта «новая искренность», интересующая в наши дни столь многих людей? Чтобы избежать ненужных ожиданий, я оговорюсь сразу, что не стремлюсь дать однозначный безапелляционный ответ на этот вопрос. В книге не ставится задача решить раз и навсегда, что «на самом деле» представляет собой новая искренность, которую очень по-разному понимают различные авторы. Я не пытаюсь доказать, что российский автор А или музыкант Б – «подлинный» проводник этого тренда. Я не считаю, что новая искренность является главным культурным трендом, который следует за постмодернизмом, и не думаю даже, что подобная тенденция непременно должна следовать за постмодернизмом. Я не намерена доказывать, что именно «искренность» – свойство быть правдивым, откровенным, чистосердечным, по определению толкового словаря русского языка под ред. Т. Ф. Ефремова, – новая парадигма XXI века.
Существующие исследования «новой» или «постпостмодернистской» искренности часто имеют полемическую установку: ученые и критики с жаром доказывают, что того или иного писателя, художника или целый культурный тренд можно или, наоборот, нельзя воспринимать в перспективе новой искренности. В этой книге я стараюсь избегать подобной активной апологии или критики понятия. Моя цель иная: я стремлюсь определить его роль в процессах современного культурного производства и потребления. Этот подход предполагает, что риторика новой искренности представляет собой продуктивную отправную точку для того, чтобы начать обсуждение столь разных социальных категорий, как идентичность, язык, память, коммодификация и медиа.

Илл. 1. Алла Есипович. Без названия (из серии «Песочница»), 2004–2005. Художник Олег Кулик называет Аллу Есипович одной из пяти представителей «новой искренности» в современном российском искусстве 55 . См. всю серию: www.esipovich.com/node/30. (Фотография публикуется с разрешения Аллы Есипович)
Мой главный тезис состоит в том, что в нынешней России разговор об искренности и ее неизменном современном двойнике – постмодернизме – неизбежно превращается в разговор об искренности после коммунизма. Это уточнение, вынесенное в заглавие моей книги, отсылает к «Романтизму после Освенцима» (2007) – монографии Сары Гайер, посвященной изменениям в романтических парадигмах после Холокоста56. Меня, как и Гайер, интересует соотношение социальной травмы и культурных сдвигов. Однако постсоветская искренность – это искренность после коммунизма не только в «травматическом» смысле. Название книги отсылает к трем главным целям, которые я поставила перед собой:
– во-первых, я исследую формы искренности в обществе, сформированном желанием преодолеть травматический опыт советского периода и неудавшийся коммунистический эксперимент;
– во-вторых, я ставлю вопрос о месте искренности в посткоммунистической экономике, рассматривающей честность и подлинность в качестве потенциальных рыночных инструментов;
– в-третьих, я изучаю взаимоотношения между искренностью и последовавшим после коллапса советской пропагандистской машины подъемом постсоветской, (пост)дигитальной медиасферы.
Описывая цель своего анализа, я не случайно прибегаю к понятиям постсоветского и посткоммунистического – этим неоднозначным и, как верно говорят коллеги, «используемым по поводу и без повода» этикеткам57. Рассмотрение проблем искренности в России тесно связано не только с глобальным дискурсом о честном самовыражении, но и с широко обсуждаемым вопросом о специфике искренности в так называемом «постсоветском» или «посткоммунистическом» пространстве – в той части мира, которая еще недавно находилась под сильным влиянием коммунистической идеологии и была исторически так или иначе связана с Советским Союзом. Некоторые ученые справедливо ставят вопрос о том, как долго мы будем обозначать эту часть мира столь ограниченными во временном и социальном отношении терминами, как «посткоммунистический» и «постсоциалистический»?58 Они вполне обоснованно сомневаются в корректности утверждения о том, что «политика и идеология при социализме соответствовали друг другу… в сравнительно большей степени, чем в тех странах, которые мы называем „капиталистическими“»59. Во многих случаях ответ на этот вопрос является отрицательным: современная жизнь в России или, скажем, в Румынии только частично определяется коммунистическим прошлым, общим для них в XX веке.
Однако по отношению к предмету исследования, избранному в данной книге, ответ на этот вопрос, как мне кажется, может быть положительным. Я постараюсь показать, что сегодня коммунистический (или, если хотите, социалистический) опыт по-прежнему определяет риторику искренности на культурном пространстве, которое некогда называли Восточным блоком. Разговоры о возрождении искренности ведутся – приведем только два примера – в публичном пространстве Болгарии, где множество блогеров обсуждают постпостмодернистскую искренность60, и весьма сходным образом – в (строго говоря, все еще коммунистическом) Китае, где, если верить кураторам выставки китайского искусства в галерее «Тэйт Ливерпуль» в 2007 году, современная арт-сцена охвачена постоянным «поиском новой искренности»61. Более того, хотя многие авторы, голоса которых прозвучат в этой книге, обычно определяются как «российские», некоторые из них имеют корни или живут в других странах, некогда входивших в Советский Союз.
Учесть происходящее на этом обширном пространстве чрезвычайно важно для понимания природы посткоммунистической искренности. Я осознаю это, однако, как по практическим причинам (я русист), так и по причинам концептуальным (искренность как особый исторический модус в российской культурной истории), случаи, о которых пойдет речь, будут касаться именно российской риторики новой искренности. Более того, мое исследование сосредоточено на определенной социальной страте российского общества – страте, которая частично совпадает с той группой, которую раньше назвали бы «интеллигенцией», частично с той, которую теоретик медиа и культуролог Дэвид Хезмондал называет «рабочими культуры», частично с той, которую описывают в (порой бравурно-корпоративных) исследованиях творческих индустрий и «креативного класса»62. В этой книге я, в зависимости от контекста, определяю ту же самую группу как «(публичных) интеллектуалов», «образованное сообщество» или «творческие»/«интеллектуальные круги».
Внутри этой социальной страты меня особенно интересуют те, кто работает в новых российских медиа и в области культуры, литературы и новых медиа. Эти три области занимают важное место в глобальных дискуссиях о возрождении искренности, однако для исследования именно постсоветского дискурса об искренности литературу следует поставить во главу угла. Российские писатели и интеллектуалы сегодня борются за то, чтобы «сохранить свое значение после коммунизма» (как заметил литературовед Эндрю Вахтель), и они не полностью утратили привычную для себя функцию «гласа народа»63. По словам историка культуры Розалинды Марш, «для историков современной России по-прежнему важно принимать во внимание культурные процессы и публичные дебаты в среде интеллигенции, поскольку многие российские интеллектуалы… являются важными публичными фигурами и их идеи оказывают существенное влияние на политических лидеров и народ в целом»64.
Разговоры о новой искренности принадлежат к числу тех литературно-интеллектуальных дискуссий, которые сильно воздействуют на постсоветскую публичную сферу. Излагая их содержание, я сознательно обращаюсь не только к специалистам по данному региону, но и к более широкой аудитории. Зная о характерных для изучения постпостмодернизма тенденциях в США и Западной Европе, я хочу обратить внимание на его более широкую культурную диверсификацию. Ведь существенный вопрос «В какую культурную эпоху мы живем сейчас и как она соотносится с постмодернизмом?» является предметом живых споров не только в том регионе мира, который обычно ассоциируют с «Западом». Этот более широкий транскультурный контекст, правда, не остался совершенно незамеченным в гуманитарных исследованиях и в какой-то мере известен западной аудитории. Спорадические переводы, а также написанные по-английски работы Эпштейна, Липовецкого и еще нескольких славистов и писателей помогают англоязычной аудитории познакомиться с последними (в том числе постпостмодернистскими) культурными процессами, идущими в России65. Тем не менее вплоть до настоящего времени широкомасштабные транскультурные исследования постпостмодернистского дискурса являются скорее исключениями из общего правила. В нашей, как ее иногда называют, транснациональной или постнациональной публичной сфере иметь инклюзивное представление об этом дискурсе оказывается важно, как никогда раньше66.
НОВАЯ ИСКРЕННОСТЬ: РАБОЧЕЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
«Московский концептуализм, в сущности, не более чем слух, предположение, подозрение» – так определял культуролог Борис Гройс художественный подход, доминировавший в позднесоветскую эпоху и во время перестройки67. Московские концептуалисты ниспровергали идеологию социалистического реализма, прибегая к художественным практикам, которые теперь, с исторической дистанции, можно спокойно назвать постмодернистскими.
В годы перестройки московский концептуализм продолжал доминировать в российском культурном пространстве, однако искусствоведы склоняются к выводу, что к концу 1990‐х годов он потерял потенциал для дальнейшего художественного роста. Среди новых тенденций не один критик упоминает «новую искренность» как обозначение новой культурной парадигмы. Адепты новой искренности больше спорят друг с другом, чем соглашаются, однако в одном они согласны: отталкиваясь только от фактических данных, определить новую искренность оказывается столь же непросто, как и ее предшественника – концептуализм. Историк литературы и поэт Илья Кукулин в интервью, которое я взяла у него для этой книги, выразил эту сложность следующим образом: «новая искренность» заслуживает внимания исследователей, но «недостаточно осмыслена как теоретическая проблема»68.
Как я уже предупреждала, данная книга не ставит задачу дать исчерпывающее теоретическое определение понятия «искренность» или его предполагаемого предшественника – понятия «постмодернизм». Я не решаюсь браться за их определение хотя бы потому, что не думаю, что подобные всеобъемлющие определения вообще возможны. Однако в исследовании, посвященном понятию «новая искренность», будет все же нелишним дать рабочее определение69.
«Новая искренность» в этой книге указывает прежде всего на современный тренд, то есть, если прибегнуть к (несколько герметически сформулированному) научному определению слова «тренд», – наличие «внутренне определенной непрерывной функции в рамках определенного темпорального промежутка»70. В данном случае мы наблюдаем непрерывно повторяющиеся отсылки к понятию «новая искренность» в рамках временного промежутка с середины 1980‐х и до начала 2010‐х годов, когда была написана эта книга.
Несмотря на самые разнообразные употребления понятия «новой искренности» в России (очень трудно найти что-то общее между сугубо теоретической трактовкой «новой искренности» и восклицанием взволнованного блогера: «А, это и пр-р-равда новая искренность!»), это выражение все же встречается в ситуациях с определенными общими предпосылками. Самая важная из них: перед нами реактивный, или, как выражаются некоторые исследователи, «диалектический», термин71. Так же как, например, русский романтизм невозможно объяснить иначе, нежели реакцией на неоклассицизм, так и новую искренность нельзя понять вне постмодернизма – парадигмы, на которую это понятие откликнулось и чьи уроки оно усвоило. Не случайно и внутри России, и за ее пределами сторонники новой искренности постоянно обращаются – эксплицитно или имплицитно – именно к постмодернизму.
Сама по себе эта общая черта почти ничего не говорит нам о риторике новой искренности: хотя большинство специалистов полагают, что постмодернизм был основан на скептическом художественном и интеллектуальном подходе к действительности, это понятие сегодня настолько изношено, что потеряло всякую определенность. Социолог Дик Хебдидж еще в 1988 году отмечал его дискурсивную непрозрачность. По его словам, мы явно имеем дело с модным словечком:
Когда оказывается возможно назвать «постмодернистским» убранство комнаты, облик здания, стилистику фильма, композицию аудиоальбома или «скретч-видео», телевизионную рекламу или документальный фильм (или «интертекстуальные» отношения между ними), макет страницы в модном журнале или в критическом издании, антителеологическую тенденцию в рамках эпистемологии, опровержение «метафизики присутствия», общее притупление чувств, коллективное уныние, мрачные прогнозы о будущем послевоенного поколения «беби-бумеров», которые испытывают разочарования, свойственные людям средних лет, «проблему» рефлексивности, ряд риторических тропов, «культ поверхностности», новую фазу товарного фетишизма, зачарованность образами, кодами и стилями, процесс культурной, политической или экзистенциальной фрагментации и/или кризис, «децентрацию субъекта», «недоверие к метанарративам», замену единых силовых осей множеством силовых/дискурсивных формаций, «подрыв значения», коллапс культурных иерархий, страх ядерного самоуничтожения, упадок университетов, функционирование и воздействие новых миниатюризированных технологий, крупные сдвиги в обществе и экономике в направлении «медийной», «потребительской» или «мультинациональной» фазы, чувство (в зависимости от того, о ком вы читаете) «безместности» или отказа от нее («критический регионализм») или (даже) общей подмены темпоральных координат пространственными – когда оказывается возможно назвать все эти вещи «постмодерными» (или для простоты использовать сокращение «пост» или «постпост»), – тогда становится ясно, что перед нами модное словечко72.
Хебдиджу явно доставляет удовольствие растягивать свой список до бесконечности. И в этом его стилистика резко отличается от той, к которой склонны приверженцы возрожденной искренности. Они предпочитают куда более короткий – и, как правило, карикатурно утрированный – перечень отвергаемых ими характеристик постмодернизма: излишний релятивизм, цинизм, насмешливость, вседозволенность и этическое безразличие.
На место этих «уродливо постмодернистских» черт апологеты новой искренности предлагают некую культурную альтернативу. Как формулирует наиболее известный из российских провозвестников возрождения искренности, культуролог Михаил Эпштейн, они защищают эстетику, которая «определяется не искренностью автора и не цитатностью стиля, но именно взаимодействием того и другого, с ускользающей гранью их различия, так что и вполне искреннее высказывание воспринимается как тонкая цитатная подделка, а расхожая цитата звучит как пронзительное лирическое признание»73.
Это определение было предложено Эпштейном в 1999 году, однако оно сильно напоминает риторику, появившуюся гораздо раньше – в 1950‐х годах – в эпоху, к которой я вернусь в первой главе. Эпштейн утверждает, что новоискренняя эстетика возрождает и переоценивает «такие любимые в годы оттепели слова, как „душа“, „слеза“… „красота“… „правда“ и „царствие Божие“». Эти слова, считает он, обросли «спесью и чопорностью» в результате многовековой традиции официального употребления, но, пройдя «через периоды революционного умерщвления и карнавального осмеяния… теперь возвращаются в какой-то трансцендентной прозрачности, легкости, как не от мира сего»74.
В словах Эпштейна трудно не заметить налет мистицизма. Не вызывает сомнений и то, что его трактовка термина «новая искренность» не стала непосредственным источником вдохновения для всех и каждого: в онлайн-письме, например, это понятие часто выступает не как тщательно продуманный теоретический концепт, а как поведенческая модель («Выставляя свою внутреннюю жизнь на всеобщее обозрение в сети, я воплощаю ранее неслыханную искренность») или как маркер идентичности («Я адепт новой искренности – вот почему я люблю певца А или поэта Б»).
Эпштейн – важный, но не единственный голос в этой дискуссии. Как мы увидим в последующих главах, теоретики российской новой искренности до сих пор продолжают переопределять ее как продукт новой медийной или массмедийной культуры и постсоциализма. Однако Эпштейн чутко уловил суть как русскоязычной, так и глобальной риторики новой искренности. Он указал на то, что центральное место в этой риторике занимает дискурсивный жест честного самораскрытия (честен ли при этом художник в действительности – это другой вопрос; значение имеет его приверженность приему эмоциональной прозрачности).
Предложенное Эпштейном описание доказывает также и то, что разговор о новой искренности нельзя отделять от более широкой дискуссии, которую можно свести к вопросу: «Завершен ли постмодернизм, и если да, то что следует за ним?» Этот вопрос вращается вокруг тезиса, который одни продвигают, а другие опровергают: приемы (раннего) постмодернизма уже исчерпали себя и их постепенно вытесняют новые культурные тренды.
В Университете Амстердама мы с группой литературоведов и историков философии занимались сравнительным анализом этого «постпостмодернистского» дискурса75. Коллектив, включавший специалистов по американской, британской, французской, русской, боснийской, немецкой, польской, норвежской и голландской культурам, составил список ключевых слов, которые в предельно концентрированном виде отражают «мышление за пределами постмодерна». В список вошли следующие понятия: «ирония», «релятивизм», «этика», «ангажированность», «метафикшн», «подлинность», «искренность», «сентиментализм», «возвращение „я“», «нарративность», «регионализм» и сам «постмодернизм»76.
Проведенная работа показала, что понять взаимоотношения этих терминов с транснациональным дискурсом о современной культуре достаточно сложно. В большинстве исследуемых сфер, как только речь заходит о «современном состоянии», различные термины приобретают то негативные, то позитивные оттенки значения, в зависимости от позиции автора высказывания. Для некоторых участников дискуссий в том или ином регионе ирония и релятивизм – это своего рода табу; для других именно они придают ценность «постпостмодернистской искренности», «новой нарративности» или «новой подлинности». Некоторые критики полагают, что нынешние «обновленные» «искренность», «ангажированность» или любой другой термин из приведенного выше списка указывают на полный разрыв с постмодернистским мышлением, знаменуя наступление новой культурной эпохи, сопоставимой с Ренессансом или романтизмом. Другие считают, что современные тенденции – это всего лишь исправление ошибок продолжающегося (пост)модерного мышления и мы находимся на пороге новой стадии большого проекта модерности или постмодерности. Третьи предупреждают, что не следует доверять провозвестникам постиронической эпохи: ведь как можно вернуться к искренности и серьезности после постмодернизма, как будто не произошло ничего существенного? Особую сумбурность дискуссии придает то, что ее участники обычно на одном дыхании произносят совершенно разные по содержанию, но популярные в данный момент слова для обозначения одного и того же явления.
Позиция Эпштейна в этом отношении вторит международным тенденциям: для него эстетика новой искренности смешивается и переплетается со множеством им же изобретенных (и во многом взаимозаменяемых) обозначений современных культурных трендов, таких как «постцитатное творчество», «постпостмодернизм», «транслиризм», «новая сентиментальность», «постконцептуализм», «трансутопизм», «транссубъективность», «трансидеализм», «трансоригинальность», «транссентиментальность» – и, в довершение, ряд заканчивающихся на «-изм» «как бы» понятий, включая «„как бы“ лиризм», «„как бы“ идеализм» и «„как бы“ утопизм»77.