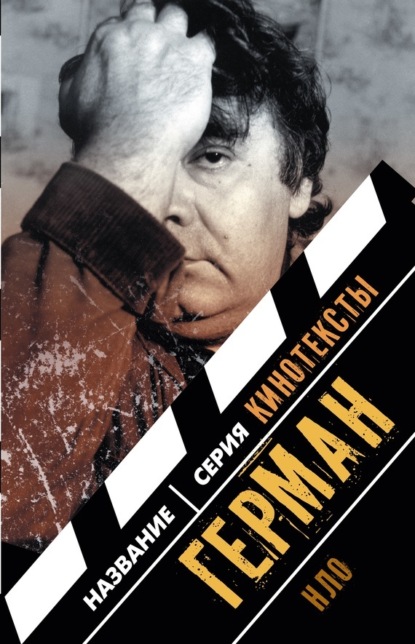Полная версия
Киномысль русского зарубежья (1918–1931)
осветить и
окрасить
в тон нужный может только художник!
Фильму называют иначе «картиной» – не глубокое ли в этом значение?
Художник тут необходим!
(мы приходим к обратному выводу!)
Но:
«Зрительный образ» – это только половина всего синема, другая же заключена:
в движении.
Вот новый фактор, который резко отличает живопись от экрана…
В этом разница между:
статической живописью
и
динамическим Синема 61.
Здесь нужен новый тип художника, который бы мыслил и чувствовал образ во времени зрительно,
во времени, т. е. в темпе,
в метре,
в ритме
(здесь связь и подход к новой теме: «синема – музыка»).
Экран не «рассказывает», а «показывает»…
(общеизвестное, даже банальное правило) это изначальное свойство экрана, следствием коего будет:
приход
нового
художника
ритмов
взамен режиссеру от беллетристики театра настоящего времени. (Намекну о будущем великом пути синема: poupées et dessins animés62)
Ритм – это все!
Здесь скрыты возможности колоссальные и перспективы блестящие,
но
они
впереди…
Разговоры о кризисе Синема – достаточно показательны: Синема на ложной дороге;
литературные инсценировки – никуда не годятся
театральные пьесы – в Синема пропадают
исторические фабулы – замусолены и надоели.
Выхода нет.
Кризис Синема – кризис сценария.
Сценарий был «повествованием»,
должен стать «действием».
Узреть это «действие»,
иметь острый и зоркий глаз
может только
«художник-ритмограф».
В пришествие
это
я
верю!
Печатается по: Кинотворчество. Театр. 1925. № 14.Александр Лагорио РЕАЛИЗМ КИНЕМАТОГРАФА
Из всех искусств кинематограф самое реалистическое. В первых фильмах, когда еще отсутствовали специальные артисты экрана и роли исполнялись актерами драматическими, то есть театральными, какой нелепой казалась их игра! Между тем она была самой реалистической сценической игрой, и все же она поражала зрителей отсутствием естественности и этим доказывала, что кинематограф – искусство гораздо более реалистическое, чем театр. С тех пор искусство значительно развилось, и именно в сторону реализма. Актеры кинематографа сейчас играют в совершенно иной, не театральной манере, вполне натуральной.
В настоящей жизни впечатления составляются сложным путем: видом, то есть формой предмета, цветом, весом, звуком и запахами. Напротив, впечатление «естественного» кинематографа образуется только видом предметов. Часто в жизни мы не обращаем внимания на подробности вида предмета, что нисколько не мешает нам сохранить полученное впечатление. Недостающие нам подробности восприятия формы восполнены впечатлениями цвета, звуков или запахов. Все это не существует в кинематографе, где только форма и движения являются двумя основаниями, на которых все покоится. В обмен на ощущения, которые расширяют наши впечатления (цвет, звук, вес, запах), мы вынуждены углублять эти впечатления от формы и движения в сторону реализма. Когда на сцене актриса по роли должна плакать, театральный зритель, самый реалистический, будет удовлетворен одним движением плеч и лицевых мускулов, изображающих рыдание. Никогда ему не придет в голову идея проверить, действительно ли текли слезы по ее лицу. Тогда как на экране, если артистка второго плана показывает всем своим поведением, что она плачет, ее лицо на первом плане изображено непременно орошенным слезами. Прибегла ли она к помощи лука или глицерина – зритель видит на ее лице только настоящие, реальные слезы. Когда на сцене театра исполнитель роли преступника оставляет на бумаге отпечаток своего пальца, публика ему верит, не стараясь проверить, существует ли в действительности этот отпечаток. Кинематограф, приближаясь к уголовной полиции, требует натурального отпечатка пальца.
Искусство без условности сейчас неприемлемо. В искусстве кинематографа условность – в отсутствии красок и перспективы. Но условность, к которой мы привыкли издавна, теряет свое действие. К условностям кинематографа мы привыкли еще с того времени, когда его не существовало, – по фотографии. Так, мы имеем право откинуть эти малозначащие подробности, и мы видим, что кинематограф реалистичен до конца.
Но с точки зрения самого реализма мы находим в нем значительный пробел. Это – область таинственного: сны, видения и т. п.
Сон или галлюцинация? Воспоминание или материализация? Нормальный человек, способен ли он анализировать это?
Воспоминания непрерывно развертываются перед нами, не облекаясь в определенные формы, в каких они были в момент реальности. Образы смешиваются с физическими ощущениями (горе, ужас и т. д.). Когда сон или воспоминание принимают формы реальные, сама эта реальность возбуждает в нас сомнение – не следствие ли это болезненного волнения или мистификации? В реальной жизни видения и мечты реалистичны по самой их ирреальности, потому что они доказывают реальность нашего существования своим смещением и непоследовательностью. С точки зрения реальности, бывают ли когда-нибудь наши сны последовательны и без нелепостей? Но для спящего эти нелепости представляются гораздо более убедительными, чем самые неизменные факты для человека бодрствующего. Если в состоянии бодрствования слеза на щеке или отпечаток пальца преступника реальны, то во сне та же слеза и тот же отпечаток не реальны, но вымышлены, тогда как бидон масла, одновременно изображающий вашего покойного дядю, реален.
До последнего времени видения и сны изображались на экране теми же образами, выражающими жизнь, но более светлыми, неопределенными, подчас просвечивающими. Исполнение развивается так же, как изображения жизни, и только моменты перемены картины реальной жизни в сон и наоборот более определенны: одна картина медленно переходит в другую. Иногда спящий, еще лежа в постели, в то же время начинает принимать участие в следующей сцене – сцене сна, тогда как во всех остальных отношениях сон на экране ничем не отличается от реальной жизни на том же экране.
Только недавно в двух фильмах, разного производства и разных стран, мне случилось видеть изображение сна совсем иное, чем обыкновенно. Сон Кримгильды в первой части «Нибелунгов», мрачный, но неверный сон без фактов или точных образов, дает впечатление гораздо более живое, чем все показанное до сих пор. Но не каждый сон может быть изображен этим способом, потому что часто образ сна должен иметь значение для следующего действия, кроме непосредственного его впечатления.
Другой фильм (не припомню заглавия), реализованный Мозжухиным, позволял видеть сон, своим глубоким смыслом связанный с самим действием. Этот сон исполнен так красноречиво, с точностью снов вообще, что зритель должен получить впечатление, что сам режиссер действовал в состоянии сна.
Но, в итоге, область изображения таинственного совершенно еще не исследована в кинематографе. Она ждет своего создателя и с тем большим нетерпением, что, обладая благодаря своей технике средствами совсем исключительными сравнительно со всеми иными искусствами, кинематограф своим ярким реализмом может сделать убедительными все вещи неверные, неизвестные и таинственные.
Печатается по: Театр – Искусство – Экран (Париж). 1925. Декабрь.Павел Муратов КИНЕМАТОГРАФ
IКинематограф является в настоящее время наиболее определенно выраженным видом антиискусства. Тем, кто уже знаком с мыслями, высказанными пишущим эти строки в статьях «Антиискусство» и «Искусство и народ»63, такая квалификация кинематографа не покажется непременно отрицательной. Ни в тех статьях, ни в этой не ставился и не ставится вообще вопрос, «что лучше» и «что хуже» – искусство или антиискусство. «Лучше» и «хуже» – эти суждения могут быть высказаны с очень различных точек зрения. С точки зрения, например, соответствия своей эпохе и предугадывания будущего, некоторые проявления антиискусства гораздо жизненнее (а это значит и лучше?) многих современных искусств.
Терминология «антиискусства» условна и произвольна. Пишущим эти строки «антиискусство» не определялось точнее, чем некий род человеческой деятельности, который, не будучи искусством, вполне замещает и вытесняет в современной жизни искусство. Более подробно и точно определить, что такое антиискусство, можно было бы, следовательно, только условившись предварительно в том, что такое искусство. И здесь, во избежание недоразумений, надо ограничиться следующим: будем понимать под словом «искусство» все те искусства, которые созданы Европой XVII–XIX веков или унаследованы ею от предшествующих культурных циклов – преевропейского и эллинистического, то есть живопись тона, архитектуру пропорций, музыку гармоний, драму словесного театра, лирику стиха и прозу романа. При таком условии никому не возбранно называть виды деятельности, стремящейся заместить в нынешней жизни все эти искусства, ну хотя бы даже «новым искусством». Сущность дела не меняется от того или другого названия. Название «антиискусство», однако, более правильно, так как оно выражает до некоторой степени и сущность дела, слово же «новый» вообще никогда ничего не выражало, кроме ощущения момента смены чего-то одного чем-то другим.
Менее всего можно усомниться в том, что кинематограф играет в современной жизни роль куда более заметную, чем очень многие виды искусств. Нелегко было бы вычислить, какая ничтожная часть населения Европы и Америки заметила бы, например, если бы это случилось, что живописцы перестали писать картины и выставлять их на выставках. Думается также, что и закрытие всех без исключения театров в какой угодно стране не было бы почувствовано значительным большинством даже одного ее городского населения. Но прекращение кинематографического дела, закрытие кинематографов вне всякого сомнения затронуло бы действительное большинство жителей каждого города и, следовательно, оказалось бы крупным событием в социальной жизни. За короткий период своего существования кинематограф успел врасти в социальную жизнь и распространился в ней так широко, как это не удавалось никакому театру в европейский период истории.
Но, могут сказать, такая «количественная» оценка кинематографа не может служить верным мерилом его современного значения. Если социальное место искусства не есть окончательный критерий его внутренней необходимости, то не относится ли то же самое к антиискусству? В конце концов, в общение с искусством вступает индивидуальный человек, и к индивидуальному человеку, а не к человеческим коллективам оно обращается. И если антиискусство может быть сопоставлено с искусством или ему противопоставлено, то это лишь потому, что и его объект в конце концов тоже индивидуальный человек. Иначе шла речь бы о явлениях вообще какого-то совершенно иного порядка.
Кинематограф сделался необходимостью для современного индивидуального человека. Ему отданы часы досуга, отдыха, рекреации, те часы, когда человек живет более всего именно как индивидуальный человек, а не как социальный человек. Вечерняя жизнь городов, особенно больших городов, это в значительной степени жизнь под знаком кинематографа. Притяжение его так велико, так наглядно, как никогда не было притяжение театра, картины или книги. И это показывает, кстати сказать, что эмоциональный фонд современного человека вообще не оскудел. Энергия чувствований, очевидно, не уменьшилась. Им дано только совершенно иное направление. Волнения современного человека направлены не в сторону искусств, но в сторону антиискусства. И точно так же, как искусства XVII–XIX веков являются наиболее надежным свидетельством для суждения о былом европейском человеке, антиискусство должно раскрыть в самом процессе его сложения современного «постъевропейца». Кинематограф объясняет современность в ее интимности, в непроизвольности тех эмоциональных чаяний, которые он один оказывается способен удовлетворить. В вечерние часы стихающих судорожно больших городов каждый полутемный зал с мельканием неживо бесцветных изображений на светлом экране является местом весьма знаменательного опыта о нашем современнике и о самих себе.
IIКинематограф – живая фотография. Однако же живая, конечно, но только очень быстро движущаяся фотография. Скорость движения и его ритм вполне механичны, так как в органической жизни, постигаемой непосредственно, а не через методы точных наук, таких скоростей и таких ритмов не знает человек. Само по себе то обстоятельство, что мы видим движущиеся фигуры, в результате быстрого движения ряда неподвижных снимков, указывает, что мы психологически оказываемся как раз в надлежащих условиях этого физического опыта. Из чего не следует, что всякий человек должен всегда оказаться в этих условиях. Показался ли бы кинематограф «живой» фотографией египтянину, римлянину, даже человеку XVIII века, – в этом позволительно усомниться. Наш предок, быть может, увидел бы эти мелькания на экране как-то совсем по-иному и по-своему. Иначе «прочел» бы он их, иначе «расшифровал» бы, лишенный той научной базы, которая лежит где-то в основе всех восприятий современного человека. Так, лишенная более общего человеческого опыта, «читает» как-то по-своему собака более простой физический фокус – отражение в зеркале.
И замечательнее всего, что оптический эксперимент кинематографа удается со всяким современным европейским человеком, с ребенком, с человеком, не изучавшим никакой физики. Способность «читать» впечатления жизни на научном языке становится врожденной, инстинктивной, бессознательной, что неизмеримо важнее, чем если бы она была только сознательной. Научно видеть воспитывается постъевропейский человек не столько в какой-либо школе, сколько в самом процессе механизированной жизни. Крестьянин, встречающий автомобиль только на сельских дорогах и не отдающий себе отчета в его устройстве, ребенок, вырастающий при свете электрической лампы, «привычной, как солнце», уже вовлечены в круг научного мироощущения. Само собой разумеется, что есть градации в этом мироощущении и что у жителя больших городов оно полнее, например, чем у сельского жителя. Недавняя война, насквозь научная, насквозь механизированная, поставившая миллионы людей лицом к лицу с чудовищным физическим экспериментом, нарушившим все привычки органической жизни, сыграла огромную роль в пересоздании психики европейца и в приуготовлении психики постъевропейца.
Постъевропеец не замечает научного фокуса ни в свете электрической лампочки, ни в движении фигур на экране кинематографа. Ритмы и скорости этого движения для нас знакомы. Они входят в наше представление о закономерности жизни, несомненно, совсем иное, чем представление не очень далеких наших предков. Важно заметить, что это представление во всяком случае не то, с которым создавались великие европейские искусства VII–VIII веков. Люди, создавшие, например, европейскую живопись, несомненно, действовали в какой-то иной природной закономерности, чем та, в которой кинематограф достигает своих результатов. Мы научились видеть кинематограф и еще не совсем разучились видеть живопись. Но мы живем, несомненно, в переходное время, на заходящих один за другой пределах двух эпох. Только последующим поколениям удастся проверить в своем опыте, совместимо ли воспринимаемое от колыбели научное мироощущение с восприятием искусства – великих европейских искусств.
Кинематограф является научным фокусом вдвойне: это не только живая фотография, но и фотография. Фотография же сама по себе кажется настолько привычным, настолько обыкновенным научным фокусом, что если у зрителей экрана еще и бывают слабые следы удивления от «живой» фотографии, то от фотографии самой по себе, конечно, никаких следов удивления ни у кого нет. Об этом просто забывают, об этом не думают. Между тем ведь именно с фотографическим снимком зритель кинематографа и имеет дело. Не своих любимых исполнителей видит он – не Чаплина, Дугласа Фэрбенкса и Харольда Ллойда, – но только фотографические снимки с них. Между исполнителями и зрителями находится фотограф, и фотограф и есть, конечно, реальный исполнитель кинематографа. Существенно помнить, что кинематографический актер старается, как всякий актер, воздействовать на зрителя чисто психическими средствами игры, но, прежде чем дойти до зрителя, эти средства проходят через передаточную инстанцию совершенно иного порядка, через научно руководимый фотографом физико-химический эксперимент светопечатания.
Фотографический снимок вообще чрезвычайно неприроден, в нем нет ни одного природного цвета, нет даже черного и белого, но есть только свои чисто фотографические цвета. Ни тон, ни перспективу человеческий глаз (глаз европейских великих живописцев) не видит так, как передает их объектив фотографического аппарата. В фотографии есть вообще большая зрительная неправда, безличная и мертвая научная неправда, если сравнить ее с чудесной, живой художественной неправдой великих живописцев. О снимках часто говорят, что они более или менее искусны, что они даже «художественны». Критерием в этих случаях служит сходство с живописью. Фотография может до некоторой степени приблизиться к живописи, подражать ей в композиции, в распределении света и тени, в эффекте пятна. Некоторые фотографические снимки, снятые против света, дают впечатление живописного тона, в других чисто по-живописному даны контрасты белого и черного, в третьих остроумно найден рисуночный контур. Однако и в этих случаях речь может идти лишь о подобии живописи и рисунку, по существу же фотография лишена цвета, и даже фотографический белый и черный цвет не имеет ничего общего с белым и черным в живописи и в природе, а о линии не может быть и речи, так как линия существует только в глазу и в руке художника. Кроме того, фотография никогда не может приблизиться к живописи настолько, чтобы перескочить через препятствие характерно фотографической фактуры – механического зернистого строения светочувствительного слоя в позитиве. В кинематографии, в диапозитиве мы имеем дело с проекцией, тенью. Окрашенность этой тени, однако, совершенно не жива, и неорганическую ее природу легко понять, сравнив ее с живыми природными тенями, с тенями лунными, с дышащей воздухом солнечной тенью, положим, тенью от цветка на камне.
Подражая живописи, фотография стремится выйти из своего существа антиискусства и уподобиться искусству. Ошибочное, конечно, и обреченное на неуспех стремление! Характер нашего переходного времени сказывается в том, что даже кинематограф, один из наиболее развившихся видов антиискусства, заимствует приемы и цели искусства, питаясь глубоко чуждыми ему элементами, ища точку опоры в живописи, в театре, в литературе, снижая до себя возможности этих искусств. Не на этом пути кинематограф мог бы найти себя.
IIIВ жизни кинематограф чаще всего занимает место театра. Естественно, что он смешивается иногда с театром и в большинстве случаев является каким-то нелепым полутеатром. Нелепым – потому что по существу между театром и кинематографом нет ничего общего, кроме того, что и то и другое – зрелище. Однако спортивный матч или скачки тоже зрелище и даже не лишенное некоторых театральных элементов (их не лишены и заседание парламента, и митинг, и смотр войск), но все-таки зрелище очень далекое от театра, как от искусства.
Любопытно, что сама жизненная практика проводит эту грань между театром и кинематографом в очень важном моменте устройства их и существования. Кинематографическое дело – индустрия в самом реальном, обыкновенном и точном значении этого слова. Театр, при всей зараженности в некоторых случаях индустриализмом эпохи, все же индустрией не сделался и не сделается. Ему недоступны два момента, существенные для всякой индустрии, – момент расчета на широкий сбыт, на массовое потребление и момент механического размножения, момент штампа. В соответствии с этим вся организация кинематографического дела индустриальна, и практика его до конца подчинена всем индустриальным законам. Меценатство неизвестно в кинематографии, тогда как без меценатства театр вообще не может существовать. Ничего удивительного нет в том, что кинематографическое дело попало в руки людей, имеющих индустриальные навыки и, кроме того, не имеющих «за душой» решительно ничего.
Театральный мир и кинематографический в жизни встречаются, сталкиваются, пересекаются чисто внешним образом. Театральные люди, вообще говоря, в кинематографии играют не очень заметную роль. Лучшие театральные режиссеры не привились в кинематографе, и здесь нашлись режиссеры свои собственные, зачастую никогда не имевшие никакого отношения к театру. Точно то же можно сказать и об актерах. Большим артистам театра не удалось сделать в кинематографе что-либо очень заметное. Во всяком случае кинематограф держится не ими, но своими собственными по праву знаменитыми исполнителями, часто лишенными малейшего театрального опыта. Да театр их и не привлекает – талантливых и умных из них некий такт удерживает от театральных выступлений.
Наконец, то «содружество искусств», которое в каких-то случаях прямо необходимо в театре, а в других не портит дела, в кинематографе оказывается «ни к селу, ни к городу». Живописцу в кинематографе делать нечего. Надо оговориться – живописец иногда может быть очень полезен как человек «с глазом», и особенно если он изобретательный человек, чувствующий свое время и оттого способный высказаться не в формах и приемах своего искусства. Ведь очень многие люди искусств нашего времени носят в себе начало антиискусства. Но если такой живописец и может быть нужен для кинематографа, живопись его, применимая в театре, здесь не применима и не нужна.
Что же касается музыки, то ее роль в кинематографе в высшей степени замечательная и странная. Какой дикой мыслью показалось бы, например, в театре сопровождение исполнения «Марии Стюарт» музыкой садовой эстрады или муниципального воскресного концерта. Кинематографическая «Мария Стюарт» не только мирится с этим отлично, но прямо требует такого аккомпанемента. Самая заурядная театральная комедия или драма не пойдет все же под ресторанную музыку, и, однако, без этой музыки никто не станет смотреть самую остроумно придуманную и серьезно выполненную кинематографическую вещь. Без музыки вообще кинематограф не смотрится. Кому пришлось видеть такие безмолвные показывания фильма в каком-нибудь предприятии, тот знает, как быстро утомляется глаз и ослабевает внимание, как остро выступает в таких случаях неживая, неоживленная, механическая природа кинематографа.
Нечто довольно близкое к значению музыкального аккомпанемента в кинематографе – это его значение в цирке и на спортивном состязании. Единственное соответствие зрелищу, которое может в данном случае найти музыка, это соответствие только ритмическое. В кинематографе музыка имеет характер двоякой иллюстрации: эмоциональной (и это наиболее вульгарный случай), ритмической (а это случай наиболее интересный). Прислушайтесь к искусному кинематографическому аккомпаниатору. Не смущаясь, плетет он свою невероятную мозаику из Шопена, оперы Верди или Чайковского, эстрадного романса, ресторанного танца, начиная, обрывая, не кончая, но всегда и все вовремя, не в смысле эмоционального соответствия действия, но в более глубоком и важном ритмическом смысле. И часто даже взыскательный в музыкальном отношении зритель прощает ему эту чудовищную музыку, так как не слышит мест, но скользит вслед за ним по ритмам зрелища, не замечает отдельных кусочков мозаики, но отзывается лишь на ритмику ее звукового узора.
Кинематографический аккомпанемент научил современного человека пленяться музыкой джаз-банда – музыкой звука рассыпанного и нанизанного на ниточки ритмов. Искусство музыки в сколько-нибудь серьезном смысле, разумеется, так же не имеет никакого отношения к кинематографу, как искусство живописи, но в музыке кинематограф ищет какой-то крайне необходимый ему звуковой и ритмический материал. Нет ничего более ложного, чем называть кинематограф немым. Без звука, без слышимого ритма он не существует, не доходит до зрителя, и зритель воспринимает его только тогда, когда и видит его, и слышит. Это, конечно, подчеркивает обостренно ритмическую натуру кинематографа, значит, и механическую вместе с тем, потому что ритм – единственный голос механических сил и неорганического мира.
Театр живет жизнью слов, звуком и ритмом человеческой речи. И даже бессловесный механический театр не менее словесно выразителен, потому что мимика не есть отказ от слова, а только подразумевание слова, и мимический разговор – это все же разговор (с другим или с самим собой), а не что-либо иное, и часто даже особенно напряженный разговор. Мимическая речь – речь непроизнесенных или непроизносимых слов, и мы знаем, насколько могут быть красноречивее такие слова слов произнесенных и произносимых. Мимический театр может быть сопровождаем музыкой только специально для него написанной, ибо только такая музыка может быть соответственной его скрыто словесному содержанию, более важному в данном случае, чем содержание ритмическое. Пантомима, балет не могут идти под «чужую» музыку. Напротив, вошло в обычай исполнять так называемые пластические танцы (Айседора Дункан и прочие) под откуда угодно заимствованную музыку, потому что берется здесь только ее ритмическое содержание. Оттого пластические танцы ближе к ритмическим упражнениям Далькроза, к акробатике, к цирку, чем к балету, пантомиме, театру. Кинематограф, в свою очередь, ближе к этой группе ритмических антиискусств, чем к словесному или бессловесному театральному действию.