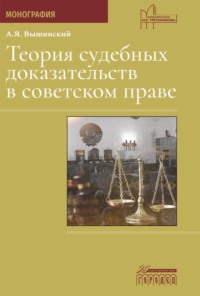Полная версия
«Раздавите проклятую гадину!» Речи сталинского прокурора
Я считаю обвинение, выдвинутое против Лаврухина, полностью доказанным. Я хотел бы только обратить внимание суда на то обстоятельство, что фиктивный мандат, выданный Зуеву, обвинительным заключением не инкриминируется Лаврухину. Между тем здесь явный подлог, квалифицируемый по ст. 116 УК. Ст. 116 признает подлогом внесение заведомо ложных сведении в официальный документ. А ложные сведения в данном случае заключались в том, что Зуеву поручалось отвезти деньги на ст. Сасово к какому-то мифическому заготовщику фуража и передать их ему, а если он его там не встретит, передать эти деньги в Москве секции. Это – заведомая фикция, которая подходит целиком под смысл ст. 116.
Поэтому я во изменение квалификации предъявленного Лаврухину обвинения полагаю необходимым добавить также ст. 116. Так как предъявление этого дополнительного обвинения не усиливает наказания, то я не предвижу каких-либо возражений защиты с формальной стороны. С другой стороны, я должен обратить внимание на то обстоятельство, что Лаврухин, на мой взгляд, в отношении репрессии, которая должна быть к нему применена, находится в особых условиях. Я считаю по ходу всего нашего дела, что Лаврухин достаточно серьезно скомпрометирован, но его преступление менее значительно. Он, в отличие от многих других подсудимых, будучи болен, все же сейчас выполняет важную работу. Поэтому в отношении Лаврухина я не настаиваю на серьезном наказании.
Я должен перейти теперь к обвиняемому Звереву. Зверев обвиняется в том, что он дал Топильскому взятку. На эту тему достаточно много говорилось, и тут, конечно, возможно только возвращение к одному и тому же положению: сколько, в конце концов, Зверев отчислил? Все ли он отчислил в пользу Топильского или только те 1800 млн. руб., которые он не провел по книгам и по которым не получил расписки, или он отчислил большую сумму, которая самим Топильским исчисляется в 6–6^1^/^2^ миллиардов? Положение не меняется ни в том, ни в другом случае.
Обвинение стоит на той точке зрения, что он отчислил 6–6^1^/^2^ млрд. руб., и считает ее не поколебленной. Вероятно обвиняемый Зверев будет стоять на иной точке зрения, на какой он стоял и ранее. Но вот одно соображение, которое выдвигалось уже в процессе судебного следствия: как мог обвиняемый Зверев дать шестимиллиардную взятку, когда вся прибыль от мануфактуры исчислялась в 400 млн. рублей? Действительно, как будто бы здесь противоречие неразъяснимое или разъяснимое в положительную для обвиняемого сторону.
Я уже в процессе судебного следствия обратил внимание суда на то обстоятельство, что деловые коммерческие взаимоотношения между Топильским и так называемым «Оптовиком» не исчерпывались одной только мануфактурой. Даже исходя из показаний Чиглинцева, «Оптовик» получил, кроме мануфактуры, еще 1000 штук кос. Конечно, нет никакого сомнения в том, что тот натурфонд, который отпускался секции, попадал в «Оптовик». Таким образом, не исключается предположение, что шесть миллиардов были даны, как неточно выражается обвинительное заключение, – не за счет прибыли за мануфактуру, а из сумм по мануфактуре, и притом за все то содействие, которое постоянно оказывал Топильский «Оптовику». Таким установится понятной эта согласованность с утверждением самого Топильского. Но если бы даже отвергнуть эту мысль, то во всяком случае эти 1800 млн. руб. останутся неоправданными. Зверев не такой наивный делец, чтобы он мог выпустить из своих рук 1800 млн руб., не взяв с Топильского даже расписки. Он знал, с кем имеет дело, и знал, что, выпустив из своих рук деньги, он потом уже, пожалуй, дела не поправит.
Но я особенно подчеркиваю свое первое соображение: Топильский давал «Оптовику» и мануфактуру, и косы, и многое еще другое, что значится по книгам «Оптовика» без указания источника происхождения. Это-то и дает право думать, что эти 1800 млн. руб. были выданы не случайно.
Я обращал ваше внимание на Зверева. По его концессионной работе, по его закупкам, он ценный человек для Топильского. Я должен обратить ваше внимание также еще на одно обстоятельство – обвиняемый Зверев принимал участие в составлении торсуевской запродажной. Поэтому квалифицируя деяние Зверева, с одной стороны, по ст. 114 УК, которая трактует о взяточничестве должностного лица, и, указывая на ст. 189 УК, которая говорит о подделке в корыстных целях официальных и простых бумаг, с другой стороны, я прошу здесь иметь в виду, что ст. 189 УК должна быть применена к Звереву через ст. 16. Я хочу также подчеркнуть ту индивидуальную особенность обвиняемого Зверева, скользящего на грани преступлений среди обломков старого капиталистического строя, как ящерица, скользящая между трещинами ущелья, ту особенность, которая характеризует его как человека весьма враждебно настроенного к Советскому государству, хотя и занимающего в этом процессе второстепенное место.
Я полагал бы необходимым избрать ему наказанием лишение свободы в пределах до пяти лет тюрьмы. Кроме того, к нему должна быть применена ст. 49 УК, говорящая о запрещении жительства в известных районах, социально опасным лицам.
Немного времени я займу характеристикой нескольких второстепенных лиц этого процесса. Раньше всего обращусь к обвиняемому Рунову. Хотя я назвал его второстепенным лицом, но он, однако, занимает здесь достаточно видное место. Преступление Рунова, как на ладони. Я не буду поэтому утомлять внимание суда детальным рассмотрением этого преступления. Человек этот – да простит он мне это невольное сравнение – воплощение того героя «Мертвых душ», который фигурировал под весьма прозаическим именем «кувшинного рыла». Он как будто так с рукой, согнутой лодочкой, и создан; он весь представляет собой ожидание и вопрошение. «Кушать нужно и одному и другому», – говорил он. «И золотом спекульнуть тоже не грех», – думал он про себя, думал – и проговаривался. Когда Рождественский начинает «тормозить», появляется Рунов, «тормоз» отпускает умелой рукой, дело улаживает, и машина продолжает спокойно вертеться. Он занимал достаточно ответственные места, он был инструктором РКИ. Затем он бухгалтер подотдела наблюдения за тотализатором. Тут уже он как будто бы на свое место попал. Во взяточничестве уличает Рунова вся его система внутренних отношений. Бендер его уличает, Сушкин его уличает, а он твердо стоит на своем и говорит: «Нет, не брал».
Может быть, здесь нужно было бы применить ту статью нашего процессуального кодекса, которая требует в известных случаях психического освидетельствования? Нет, кажется, психически он невредим. Но он решается отрицать очевидные факты, прямые доказательства… Я все же надеюсь, что в последнем слове он не выдержит и скажет: «Согрешил, виноват… Дайте, что полагается»… И вы, товарищи судьи, дадите, что полагается.
Два слова о связанных с Руновым обвиняемых – Бендере и Сушкине. Положение этих двух подсудимых неодинаковое. Бендер несет больше ответственности, так как он коммунист; Сушкин несет меньше ответственности, так как к нашей партии он не принадлежит и, следовательно, может позволить себе роскошь не так тщательно взвешивать свои поступки и не так строго относиться ко всем своим действиям. Но, с другой стороны, Сушкин несет большую ответственность, чем Бендер, потому, что Сушкин, в сущности говоря, показал дорогу Бендеру к Рунову. Это уравнивает их положение перед лицом совершенных ими преступлений и перед лицом суда. И тот и другой виноваты одинаково, и я бы требовал для них сурового наказания, если бы для меня не был достаточно ярок и силен еще один мотив, на который я считаю необходимым обратить ваше внимание. Это то, что Бендер и Сушкин действовали не для себя и сами ни одной копейки на этом деле не заработали, а запутались в тине, в ужасной системе взяточничества, которая процветала в этом знаменитом учреждении, именующемся не то Гуконом, не то секцией по спасению животноводства. Вот почему я бы полагал возможным ограничиться в отношении их общественным порицанием.
Перехожу к обвиняемому Торсуеву.
Товарищи судьи, в истории с домами большая ответственность ложится на Торсуева. Я считаю себя вправе не касаться, однако, всех этих обстоятельств дела, потому что они достаточно выпукло были обрисованы в течение допроса Торсуева. Торсуев, конечно, понимал, что он делал, конечно, он знал, что он совершает, и Торсуев, конечно, должен за это отвечать, ибо он более чем кто бы то ни было, как юрист, как бывший нотариус старой России, знает, что отговариваться тяжелым материальным положением никак не приходится, особенно ему, получившему в свое время за счет народного труда, народного пота и крови возможность быть нотариусом. Поэтому я могу не касаться материальной стороны преступлений Торсуева. Сам Торсуев достаточно красочно говорил здесь, на суде, о том, что он совершил и как он относится к этому.
Но вот возникает юридический вопрос, и, конечно, защита будет на этом вопросе останавливать свое внимание. Защита скажет: «Что, в сущности говоря, совершилось? Ничтожная сделка. Была совершена запродажная на дом, который национализирован, который, следовательно, не принадлежит ни тому, ни другому». Это – с одной стороны. Это подобно тому, как если бы я продал хотя бы Румянцевский музей и, написав запродажную, поставил бы пункт для всякого случая: «если к этому явится легальная возможность». И поскольку эта сделка ничтожна, постольку не может быть и вины за эту ничтожную сделку. А другая, более радикальная точка зрения пошла даже так далеко, что сказала: а кому же приключилась от этого беда? Ведь это все равно, как если бы я, сидя в комнате, писал какую-нибудь бумагу, скрепляя ее подписями, ставил всякие условия относительно-взносов и сроков и потом запер бы эту бумагу в стол. К чему и кого это обязывает? Как будто бы никого.
А зачем тогда мы огород городим, зачем люди сидят на скамье подсудимых и зачем привлекают их к ответственности за преступление, и действительно ли они совершили преступление. Я бы хотел дать ответ на этот вопрос и разъяснить, что эта сделка вовсе не ничтожная, что эта сделка самая настоящая и самая реальная. Ведь дело шло о продаже и покупке в 1922 году двух национализированных домов (№ 14 по Мясницкой улице и дома Михайловых по Земскому пер.) за 10 тысяч руб. золотом каждый. Эти дома были запроданы, была составлена по всей форме запродажная при помощи нотариуса Торсуева. При этом, ввиду действия закона о национализации, запродажная была составлена задним числом, 1917 годом, и скреплена нотариальной печатью и подписью на круглую сумму в 10 млн. рублей. Смысл этой аферы заключался в том, чтобы осуществить переход имущества из рук продавца в руки покупателя в том случае, если произойдет денационализация домов, на что эти господа крепко рассчитывали. И вот я спрашиваю: разве это не настоящая сделка? Разве это не настоящее преступление? Разве здесь нет подлога, нет корысти, нет мошенничества?
Михайлов здесь зарабатывает, так как он получает 10 тысяч руб. золотом за один дом (а он получил в золоте) и 10 тысяч руб. золотом за другой дом. Он получил эти деньги, заработал. Торсуев заработал как давший «юридическую форму», Зверев заработал как сведший покупателя с продавцом, а Топильский – кто-то сказал, что Топильский пострадал во всем этом деле. Ничего подобного, он не пострадал. Он надеется на то, что будет издан декрет о денационализации домов: он ставит ставку на этот ожидаемый декрет. Вот тогда-то он заработает! Он предъявит тогда документ, имеющий законную силу, и вступит во владение имуществом, которое ему принадлежит, ибо он ранее заплатил за него золотом. Говорить, что тут произошло что-то вроде кукольной игры, что эта сделка ничтожна – нельзя. Вся ставка этих игроков была на неустойчивость земельной политики советской власти, и на этой «ставке» люди кормились, торговали, составляли акты и, составляя все это, подделывали документы, хотя и не официальные документы, но подделывали…
Статья 189 гласит о подлоге в корыстных целях простых бумаг, поэтому я полагаю, что эта статья тут целиком применима. В чем задачи Уголовного кодекса, уголовной репрессии? Задачи эти в значительной степени профилактические, предохранительные. И вот, когда сила уголовного закона обрушится на этих дельцов, ловящих в этой мутной воде свою рыбешку, то они из этого извлекут урок для своей будущей деятельности и впредь они или, может быть, другие не будут так легко совершать подлоги таких простых бумаг, а государство заинтересовано в том, чтобы граждане воздерживались от подобного рода уголовных поступков.
В данном случае никто не пострадал, но государство страдает от того, что какие-то граждане начинают жульничать, подделывать документы, не шутя, не играя, а вполне серьезно. Если бы они играли в фанты, тогда другое дело, но здесь была злая, преступная игра, антисоветская к тому же игра. Одни – Торсуев, Зверев, Михайлов – успели в известной степени, выиграли кое-что, другие не успели ни в какой мере, как Топильский; но кто играет, тот и проигрывает.
Товарищи судьи, я полагаю, что к деяниям, совершенным Торсуевым, Михайловым и Зверевым, ст. 189 является вполне применимой. Я учитываю преклонный возраст Торсуева, я учитываю преклонный возраст и болезненное состояние А. Ф. Михайлова, который вел все это дело и за себя и за своего брата; поэтому я полагаю, что вы можете изменить ту меру наказания, которая здесь указывается, применив амнистии 1921 и 1922 годов, и, таким образом, с применением амнистии, даже при приговоре к двухлетнему заключению, освободить их от наказания.
Что же касается Г. Ф. Михайлова, то ввиду выяснившихся обстоятельств я от его обвинения отказываюсь: он не участвовал сознательно во всех этих сделках и должен быть от ответственности освобожден.
Позвольте также коснуться и еще одного из подсудимых, вина которого ни в какой мере не была установлена здесь, на суде, мера пресечения в отношении которого была вами уже изменена и который должен быть, по моему мнению, также освобожден от какой-либо ответственности. Я говорю о Янковском. Янковский обвинялся во взяточничестве. Это не подтвердилось, поэтому от обвинения в этой части я отказываюсь и прошу об его оправдании.
С Ширяевым судьба связала Вогуленко. Конечно, Вогуленко собственным своим признанием уличается в том, что он выдавал фиктивные расписки, но, товарищи судьи, можно ли требовать от Вогуленко такого отношения к этому документу, какого мы требовали, например, от Торсуева или Лаврухина? Конечно, нет. Поэтому я полагаю, что если вы, оставаясь в плоскости формально установленной вины, и признаете нужным подвергнуть его какому-нибудь наказанию, то вы определите ему это наказание в такой мере, которая, по применении амнистии, даст ему возможность вернуться к крестьянскому труду.
Теперь я перехожу к следующим и последним трем обвиняемым, которые связаны между собой, прежде всего потому, что они все члены РКП, – это Мишель, Теплов и Позигун.
Я едва ли ошибусь, сказав, что Мишель всей своей деятельностью, прошедшей здесь, на суде, перед нашими глазами, скользит на грани преступлений Мишель вообще скользкий человек. Правда, в этом человеке имеется немало противоречивых и друг друга исключающих качеств и свойств. Об этом говорят все его операции, особенность которых заключается в удивительной легковесности, такой легковесности, которая позволяет говорить о каком-то даже просто несерьезном его отношении к своим действиям. В этом человеке отчетливо видны и черты преступника и черты просто легкомысленного, авантюристически настроенного человека.
Первая его операция связана с 1919 годом, связана с его должностью заместителя председателя ЦКРКФ – центральной контрольно-разгрузочной фронтовой комиссии. Председателем этой комиссии был, если не ошибаюсь, Громан, а заместителем его был Мишель. Ему, конечно, нужно было иметь лошадей. Вообще про Мишеля надо сказать, что там, где он появлялся и в какой бы должности он ни появлялся, под ним фатальным образом вырастает лошадь… Он как-то весьма ловко и даже грациозно за счет оказавшегося у него излишнего фуража приобрел лишних двух лошадей. Этот фураж он получает при помощи операции, не отличающейся чистоплотностью. Он получает его из Петроградского губпродкома из расчета четырех лошадей, а содержит двух лошадей. Разницу в фураже он «экономит» и на «экономию» приобретает себе в собственность еще двух лошадей – «Фофана» и «Миловидного» У него получается четверка. Эти лошади помещаются на Малой Бронной, 40, в конюшне, именуемой «конюшней Мишеля».
Так шло дело до 1920 года. В 1920 году Мишель потребовал, чтобы ему оплатили «Бархатку» и «Батыя», указывая на то, что он попал в неловкое положение, что сделал какой-то перерасход, что надо его покрыть. Отношения Мишеля с ЦКРКФ по поводу этих лошадей настолько запутываются, что никто не может ответить на простой вопрос: кому же принадлежат эти лошади. На предварительном следствии Мишель говорил несколько раз, что когда он обсуждал вопрос о том, кому принадлежат эти лошади, то он так и не мог решить этого вопроса ни в ту, ни в другую сторону. С одной стороны, как будто бы эти, лошади куплены на экономию, которую он получал от фуража, и, следовательно, лошади должны принадлежать ему, но, с другой стороны, фураж, который он экономил, принадлежал Петрогубпродкому. Значит, лошади должны принадлежать Губпродкому.
Честный человек решил бы этот вопрос сразу: он бы сказал, что лошади принадлежат тому, кому принадлежит фураж, на который эти лошади куплены а Мишель так и не решил этого вопроса В доказательство этого прошу обратить внимание на его объяснения на предварительном следствии, которые содержатся в V томе и, в частности, на листе 336, например, где он просто говорит: «Задумываясь над юридическим положением этих лошадей» и т. д., рассказывает, что твердо не знает, кому эти лошади принадлежат, но фактически этими лошадьми он распоряжается, как своими.
Так рисуется нам эта первая операция Мишеля: лошади эти долгое время все-таки значатся у Мишеля, в его распоряжении. Правда, к этим лошадям прибавляются потом новые. В одном показании Мишель говорит (том V, лист 333): «Я утверждаю, что всего у Губпродкома 13 лошадей: 9 на Малой Бронной, 2 на конюшне Гукона, 2 на излечении, – и все принадлежат Губпродкому», А Пахомов утверждает, что были три лошади и что он ни одной не получил. Из этой первой операции я делаю вывод, основываясь на всей совокупности обстоятельств, что Мишель старался присвоить себе этих лошадей и предпринял для этого ряд мер. Вот почему, как показывает Громан, он просил оплатить ему расходы по «Батыю», а когда ему отказали, он просил исключить «Батыя» из инвентаря ЦКРКФ и перечислить в инвентарь Губпродкома.
Вообще система у него была такая: Пахомову (Петрогубисполком) Мишель говорил, что это лошади Всеработземлеса, а ЦКРКФ – что это лошади Петрогубисполкома и Петрогубпродкома. Одни думают, что лошади принадлежат тем, а те думают, что лошади принадлежат другим, а лошади в это время остаются у Мишеля и обслуживают его и те учреждения, к которым он благоволит, как, например, Гидроторф, Винторг и т. д. и т. д.
Теперь вторая операция, 1921 года. Мишель становится помощником начальника Гукона, и опять начинается история с лошадьми. По распоряжению Мишеля в Петрогубкоммуне берутся на случайный период два коня – «Демон» и «Булат», а вместо «Демона» и «Булата» на время случной кампании появляются в Петрогубкоммуне «Горлинка», «Умница» и «Кристалл». Они попадают опять-таки на Малую Бронную, 40. Интересно, что эти лошади 30 апреля неким Лившицем были получены для Петрогубкоммуны, а 2 июня появляется уже расписка о том, что они приняты от Мишеля, а не от Гукона.
И это не случайно. Это тоже система мишелевских операций. Когда появляется в каком-либо учреждении новая лошадь, она регистрируется как лошадь, принятая от Мишеля; она направляется на конюшню Мишеля; она используется по указанию Мишеля. С ней неразрывно связывается имя Мишеля, пока все не привыкают, наконец, к тому, что хозяин этой лошади – Мишель и что, в сущности говоря, никто, кроме Мишеля, и не имеет на нее никаких прав. Иногда это не выходит, операция или махинация срывается, но иногда, и так бывает, к сожалению, в большинстве случаев, эти махинации удаются. С «Горлинкой» и «Умницей» сорвалось – 5 июля их у Мишеля отобрали. Но «Кристалл» «задержался» у Мишеля, якобы для прохождения «курса лечения».
В июле Мишель выходит из Гукона на службу в Всеработземлес. Тут опять возникает вопрос о транспорте. Он обращается к секции спасения животноводства с просьбой отпустить лошадей. Ему отпускают нескольких лошадей. Лошади эти, как и прежние, попадают опять-таки на конюшню Мишеля – Малая Бронная, 40, причем, Мишель получает от ЦК Всеработземлес содержание на пять кучеров и фураж на десять лошадей, и такое положение тянется до марта 1922 года. Затем мы видим Мишеля уже в качестве члена правления Госсельсиндиката. Тут опять заходит речь о лошадях. Свидетель Горов показывает, что Мишель обязался доставить четыре лошади и два выезда; полвыезда он должен доставить за свой собственный счет, а за остальные должен был получать вознаграждение в размере 300 млн. руб. в месяц на фураж и на оплату всех расходов, связанных с этим делом. Сам по себе этот факт ничего собой из ряда вон выходящего не представляет. Но мы видим, что и здесь повторяется та же история: в результате на мишелевской конюшне стоит несколько лошадей, и никто не может толком установить, чьи же это лошади, а Мишель распоряжается ими, как своими, и подготовляет на этот счет кое-какие документы. Нельзя сказать, что Мишель этих лошадей присвоил, но несомненно, что он сделал все для того, чтобы запутать этот вопрос в личных интересах, в целях присвоения впоследствии, при благоприятных обстоятельствах, этого государственного имущества.
Теплов – это человек случайный в партии, примазавшийся к партии. Он попадает в атмосферу лжи, подлогов, взяточничества, казнокрадства, хищений. Как он на все это реагирует? Наталкиваясь на преступление, он предпочитает «потолковать» с Ширяевым вместо того чтобы взять преступника за шиворот, как и полагается коммунисту, разоблачить его. Почему он этого не делает? Потому что он не коммунист, потому что в нем под маской коммуниста скрывается настоящий обыватель. Этот коммунист пал до того, что держал на ипподроме беговых лошадей, используя свое ответственное положение в личных, корыстных интересах.
Теплов сам признал ряд своих злоупотреблений, хотя и сделал затем попытку несколько опорочить следствие указанием на якобы неправильные действия следователя Захарова. Но мы вызвали следователя, под руководством которого велось следствие, и утверждения Теплова были полностью опровергнуты.
Можно считать установленным, что обвиняемый Теплов свои показания давал – вполне свободно и что этими показаниями он достаточно изобличается в преступлениях, предъявленных ему на суде. Его показания совпадают с показаниями обвиняемого Топильского и обвиняемого Лаврухина; совпадают и с тем, что «оказывал обвиняемый Ширяев об отчислениях, перечислениях, о том, что все это шло в общий котел, что часть шла на действительные расходы, а часть – на другие расходы: полулегальные, нелегальные и т. д.
Ведь нельзя же допустить, что этот человек мог сознательно затягивать петлю на шее ни в чем не повинного своего товарища, только якобы в угоду следователю, уступая просьбам следователя. Такой поступок мог бы допустить только окончательно падший человек, какое-то чудовище, а не человек, а Теплова таким чудовищем представить себе никак нельзя. По случайности, rio небрежности, по неряшливости мог прихватить в своих показаниях другого человека, это еще можно допустить. Но сознательный оговор… Я этого не допускаю, так как для такого допущения нет решительно никаких оснований.
Версию Теплова, выдуманную здесь, на суде, я решительно отвергаю. Теплов признал, что в октябре он получил аванс и сделал отчисление, что второй аванс он получил в ноябре и тоже сделал отчисление и что в третий раз отчислил 240 млн. руб. Теперь он это отрицает, говоря, что никаких ордеров он не получал, что их и в природе не было и что он их вовсе не видел. Но бросается в глаза одна странность: он назвал ту самую сумму, что называл и Топильский, говоря о получении от Теплова денег, – те же 400 млн. руб. Как же это они называют одну сумму? Как объяснить такое совпадение? Случайность? Нет не случайность. Одна сумма названа потому, что один давал, а другой брал эти деньги. Теплов «отчислил» эти 400 млн. Топильскому. Он сам говорит об этом, и т. Кузнецов это подтвердил. А т. Кузнецову мы не можем не верить. Теплов передачу денег Топильскому объяснил тем, что его «тянули», что у него «вымогали», что его поставили в такие условия, при которых нужно было это сделать, нужно было дать, отчислить, как деликатно выражались Теплов и другие из этой теплой компании. Но давая или «отчисляя» в пользу одних, он тотчас брал или «начислял» в свою пользу. Сам давал взятки, сам и брал взятки. Теплов все это, в сущности говоря, признал. Обвиняемый Теплов по этому поводу совершенно откровенно здесь говорит: когда с меня потребовали, а я не отчислил, то меня хотели убрать, а не убрали только потому, что когда я получил 750 млн. аванса, я из них отчислил 240 млн. руб. Это совершенно совпадает с тем, что говорят и Янковский и Топильский. Важно отметить, что Янковский не связан ни с Топильским, ни с Тепловым. Это нас еще более убеждает в том, что обвиняемый Теплов действительно отчислил в пользу «Центра» известные суммы. По собственному признанию обвиняемого Теплова, он такую же систему «отчислений» применял по отношению и к своим контрагентам, накладывая на них суммы, уплаченные «Центру», т. е. применял систему взяточничества, введенную обвиняемым Топильским.