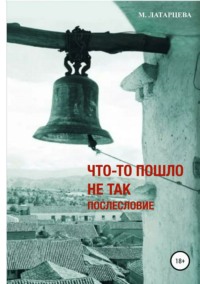полная версия
полная версияЧто-то пошло не так
– Богдан, ты должен знать, что во время войны в нашем городе жили разные люди – добрые и не очень. Вторые, недобрые, не понимая, какой грех творят, забирали из дому людей и убивали их. Однажды они пришли и за семьей Насти. Вместе с другими такими же несчастными семьями их отвели в лес и там расстреляли…
– Как в кино, мама? Совсем расстреляли? – не выдержал Богдан.
– Как в кино, сынок, совсем, – согласилась мама. – Только маленькую Настеньку её мама закрыла своим телом, и девочка не пострадала. Через три дня её, чуть живую, нашли люди, приехавшие, чтобы похоронить страдальцев. Они отдали дитя нашей бабушке. Настя долго болела, но Пресвятая Богородица помогла ей, правда, с тех пор девочка боялась людей. Она прожила долгую жизнь, если, конечно, это можно назвать жизнью – пережитое не давало ей покоя: она кричала по ночам, могла неделями не говорить и не любила выходить из дому. Сегодня Настасья умерла, царствие ей небесное. Отмучилась, несчастная… Не дай, Господи, никому такой доли…
Мама перекрестилась на икону Божьей Матери, а на следующий день дала Богдану в школу конфеты – на помин души Анастасии. Уже старшим он узнал, что Настя и её семья были евреями, а его бабушка, полячка по-национальности, ухаживая за девочкой во время войны, когда преследовались и первые, и вторые, рисковала накликать беду не только на себя, но и на своих родных. Больше эту тему они с мамой не обсуждали.
Татьяна Ильинична слушала, не перебивая, изредка кивая головой, а Богдан внезапно подумал, что герой его рассказа – вовсе не он, а человек, шагающий рядом, и он не о себе рассказывал, а об этом чужом человеке, которого знает намного лучше, чем себя.
В его семье было много тайн, закрытых для чужих, и много моментов, о которых предпочитали молчать даже между собой. Оказалось, что и сам он – не исключение, и, возможно, если бы не его мобилизация, он так и не узнал бы, что его отец ему не родной, не узнал бы, что у него есть брат… На этот раз – родной… Почти родной…
Да, что-то пошло не так, но он не знал, что именно не так, не знал, где правда, а где ложь – все перемешалось, перепуталось, мир перевернулся вверх ногами, и отыскать истину в этом невероятном беспорядке было практически невозможно.
И ещё эти сны… Сны, в которых ему казалось, что душа покидает его тело и живет отдельно, независимо от него, не особо переживая, что в это время случилось с ним на земле. Мало того, она, его мятежная душа, в своих путешествиях была абсолютно зрячей и видела даже то, что видеть было крайне нежелательно…
Неожиданно больной зашевелился. Он судорожно сглотнул, до хруста сжал руку Татьяны Ильиничны, открыл глаза и, не мигая, уставился в потолок. Медсестра побежала звать доктора. Тот с полувзгляда приказал:
– В реанимацию.
И снова палата опустела, но в этой гулкой пустоте осталась надежда на возвращение, надежда на жизнь. Богдан осторожно встал. Вышел в коридор. Ни звука. Медленно прошел мимо закрытых дверей палат, повернул направо и застыл на месте – в уголочке на коленях, со сложенными в молитве руками, стояла женщина. Смутившись, он тихо попятился назад.
Казалось, время остановилось. Процедуры, еда, осмотр глаз происходили параллельно, отдельно от того важного времени, в котором решалась судьба человека. Он весь превратился в слух, в ожидание, уповая на последний миллиграмм чуда, на крохотную частичку везения, дарованного Богом каждому человеку.
Приходила и уходила санитарка, справлялась о самочувствии медсестра, молилась в уголке женщина, а он ждал. Кажется, дышал через раз, ждал, будто от того, выживет ли Владимир, зависела и его жизнь.
Звука каталки он даже не услышал, просто почувствовал её приближение. А еще почувствовал стук сердца, живого человеческого сердца. Владимир жив. Должен жить. Почему же они не едут? Минуты ожидания превратились в вечность, пустота в голове – в вакуум…
Он закрыл глаза, вспомнил молитву: «Царице моя Преблагая, надеждо моя, Богородице… Зриши мою беду, зриши мою скорбь, помози ми, яко немощну… Обиду мою веси, разреши ту, яко волиши…»
– Ну вот, мы вернулись, – донеслось до него уставшее.
«Слава Богу, вернулись», – вздохнул он облегченно.
И снова по трубочкам-венам громко капала жизнь, и снова Татьяна Ильинична держала в руках руку мужа, передавая ему свою любовь и силу.
– Доктор пообещал, что будет жить, – одними губами прошептала она. – Сегодня нашу школу обстреляли. Второй раз за неделю… Только-только отстроили, в порядок привели после недавнего обстрела, как опять… Хорошо, детей ещё не было. Володя там случайно оказался – подарки от организации на праздничную линейку привез, а тут такое началось…
«Опять на высоком здании пристреливались», – вспомнил он батальон, в котором служил покойный Цевин.
–…Все в живых, слава Богу, остались, только привалило чуток… Он и кинулся из-под завалов людей выгребать… Дело уже к концу шло, когда оступился и на торчащую арматуру напоролся… Крови много потерял… Доктор обещал…
Татьяна Ильинична не договорила, что обещал доктор, глубоко вздохнула, потрогала лоб мужа, провела рукою по его щеке:
– Не бритый. Все некогда… С тех пор, как случилось это у нас, изменились люди, серьезными стали, на слова скупыми, осторожными. Глаза у людей изменились. Даже у детей глаза взрослые… Знаешь, такие себе маленькие старички, больно смотреть.
Наклонившись к мужу, будто что-то поправляет, женщина украдкой смахнула слезу.
– Одно не изменилось – душа… Как закончилась стрельба, все на помощь бросились, голыми руками пострадавших откапывали… Мы же шахтеры, мы ко всему привычны.
«Ко всему привычны», – повторил про себя Богдан. Перед его глазами, как в замедленной съемке, появлялись и пропадали разбомбленные села и города, разрушенные дома и заводы, накрытые густой сажей-пылью и обгоревшими тряпками трупы, покореженные мертвые машины и танки вдоль дороги, испуганные детские глаза под кроватью и длинная живая очередь за гуманитарной помощью…
– К такому нельзя привыкать, – произнес он вслух. – Это неправильно! Это неестественно – привыкать к войне!
Татьяна Ильинична посмотрела на него, будто увидела впервые:
– А что делать? Что нам делать, милый человек? Раньше я тоже так думала! И верила, что бомбежка Луганска – случайна, что нас обстреливают – по ошибке, по какому-то нелепому недоразумению, и что все это скоро закончится… Все в это верили. Но потом была Одесса, были эти девочки, почти дети, разливающие коктейли Молотова, а потом – сбитый самолет, пассажирский Боинг…
Только тогда я поверила, что не сплю, и, что весьма вероятно, ко мне в дом придет мой племянник… Придёт с оружием – убивать меня…
Знаешь, Богдан, а ведь в самом начале событий он позвонил нам: «Тетя Таня, на вас я зла не держу, не переживайте, но время такое… смутное – надо осторожными быть, так вот – хочу вас попросить больше нам не звонить».
Позже Оля перезвонила, за сына извинилась, пообещала общаться. Звонила ещё раз, и все – на этом общение наше прекратилось, закончилось… То ли сама испугалась последствий, то ли сын, Дмитрий, запретил, всякое может быть, – искала женщина оправдание молчанию родных. – А мы же сестры, понимаешь?! Сестры! У нас нет больше никого! Одни мы! Детдомовские. Брошенные… Уже однажды брошенные! Всю жизнь держались друг за дружку! Даже когда я замуж на Донбасс вышла – в гости ездили, звонили… И вдруг – нельзя… Да и племянник мой – родная кровь, не чужой, а нам запрещают родными быть, лбами сталкивают, и не в переносном, а в прямом значении… Разделили нас, рассорили, представляешь, даже общаться нельзя!..
«Нельзя», – согласился про себя Богдан. Отсутствие связи с семьей и для него превратилось в пытку, и помочь ему никто не мог, даже врачи.
Тысячу раз он отгонял от себя навязчивую мысль, что нельзя было отсылать Наталью с девочками в Россию, тысячу раз упрекал себя, что сам пошел в военкомат, тысячу раз он каялся… Тысячу раз… Но, как говорится, все мы задним умом сильны, случилось то, что случилось, и теперь надо было думать, как с этим жить.
– А знаешь, Богдан, когда перелом произошел? Знаешь, когда мы поняли, что никому в мире не интересны судьбы нескольких миллионов человек? – Татьяна Ильинична сделала паузу, словно давая ему возможность самому определить точку невозврата Донбасса.
– Когда Америка объявила виновных в катастрофе с малайзийским самолётом, с этим Боингом. Знаешь, мы сначала не поняли, удивлялись: как так – трупы в поле лежат, человеческие тела, и никому они не нужны, никто их забирать не собирается, чтобы по обычаю похоронить, никто не опрашивает свидетелей, не проводит расследования… Вообще никто не приезжает! Наши ребята охрану выставили, поле оцепили, следили, чтобы с места крушения ничего не пропало. Оказалось, что труды их напрасны – все равно никто не приезжал. Как ты думаешь, интересны кому-нибудь чужие, если свои не нужны?
«Свои не нужны…» – как же точно сказано. Он и сам ненужным себя чувствовал, давно уже, а понял это, ещё когда работу искал. Вроде все человеку подходит – и образование его, и стаж работы, и навыки по специальности, а как услышит, что за сорок, тут же теряет интерес, будто после сорока только на кладбище дорога. После нескольких таких переговоров он основательно потерял веру в себя, почувствовал себя старой бесполезной развалиной, переживал сильно, что никому не нужный, а сейчас он ещё одно понял, понял, что, по сути, его личные переживания – ничто по сравнению с жизнью миллионов людей, загнанных в угол только за то, что осмелились быть людьми.
–…Зато обстрелы с украинской стороны не прекращались. Ни днем, ни ночью… Накрывали поле, будто плугом пахали, – женщина заметила удивленный взгляд Богдана. – Мы здесь все военными стали, с ходу определяем, откуда снаряд летит… И где взорвется, знаем. Устали мы бояться, Богдан, устали умирать. И жить в постоянном аду устали. Мои ведь все в ополчении, даже дочка с невесткой, одна я дома сижу. Володя успокаивает: «Стрелять ты, Танюша, все равно не умеешь, в разведке от тебя толку ещё меньше, так что занимайся тем, что лучше всего получается – вари борщи». Оно и понятно – повар я… Вот и варю.
Женщина погладила руку мужа:
– Я и с ним благодаря борщам познакомилась…
В это время раненый открыл глаза, повел ими по сторонам, увидел жену… На лице мужчины появилась едва заметная улыбка, и он снова уснул. У Татьяны Ильиничны заблестели глаза.
Неловко отворачиваясь, чтобы не показывать своих слез, она попросила:
– Я выйду на секунду, Богдан, хорошо? А ты посматривай, пожалуйста, за Володей, если что – зови, я враз прибегу.
Вернулась женщина с врачом. Тот осмотрел больного, что-то задумчиво пожевал, хмыкнул, почесал нос и, не сказав ни слова, ушёл.
– Ну вот, такие вот дела, – подытожила Татьяна Ильинична, тяжело вздыхая. – Человек в этом мире – гость. Будем надеяться на лучшее…
Дверь в палату опять отворилась. На этот раз доктора сопровождала медсестра. Он повторно осмотрел больного, как и прежде, немного подумал, а потом решил:
– Будет жить.
– И я так думаю – будем жить.
Последние слова произнес Владимир. Взгляды присутствующих плавно переместились на него.
– На перевязку.
И снова ожидание. Он уже не помнил, какое сейчас число, месяц, день недели, не знал, который час – его жизнь превратилась в сплошное ожидание, состоящее из мучительной надежды на встречу. И снова вспомнились дети, Наталия, и её последняя просьба: «Давай куда-нибудь уедем, дорогой, насовсем уедем. У нас дети, Богдан, им отец нужен».
Из раздумья его вывели приглушенные женские голоса, которые доносились из открытого окна, и запах сигаретного дыма. Разговаривали двое. Богдан повернул голову к окну и прислушался.
–…Я в этом году в институт поступать собиралась. Медучилище с красным дипломом закончила, учиться дальше думала. Не успела…
Голос умолк, но собеседницы не ушли – запах дыма не исчезал. После небольшой паузы другой голос произнес:
– А мне бы в Питер ещё съездить. На балет. Понимаешь, я слово маме дала… Давно… Ещё в детстве. В нашем театре гастроли другого оперного были, отец билеты взял, чтобы маме удовольствие доставить. Любил он больно её, гордился очень, что мама, образованная интеллигентка, за него, простого шахтёра, замуж вышла. Он ей книги умные покупал, в музеи возил, на концерты… Работать не разрешал, представляешь? Любил!..
И снова пауза. Богдан недоумевал, как можно во время войны думать о балете? Странно как-то получается – вокруг стреляют, людей убивают, проливается кровь, а тут о любви говорят и о детских обещаниях… Да ещё о каких обещаниях – сходить на балет! «Да, пути твои, Господи, неисповедимы».
За окном снова послышалось:
–…А я мелкой была, ничего не понимала, взяла и… уснула! Представляешь, во время первого акта уснула. Только и помню, что «Щелкунчик» ставили. Папа – ничего, даже не обиделся вовсе, так и продержал меня, спящую, на руках весь спектакль, чтобы мне удобней было. А вот мама… мама сильно огорчилась, потухла вся… Она этот балет очень сильно любила… Мечтала в Петербурге посмотреть, на главной сцене Мариинского театра, да все некогда было, откладывала… Теперь вот не попадет…
Было слышно, как женщина глубоко затянулась и глухо закашлялась.
– Её прямым попаданием… Даже не мучилась.
Богдан отвернулся к стене. Ему было не по себе. Казалось, будто он подслушал что-то очень личное, сокровенное, подсмотрел в «глазок» чужую жизнь, и сделал это намеренно. А хуже всего было понимание, что он является косвенным виновником происходящего. Возможно, не по доброй воле, но все равно виноват – из-за своего равнодушия, безразличия, нежелания понять, что нельзя сохранять нейтралитет, когда на кону – человеческая жизнь, преступно быть свидетелем убийства, даже не сделав попытки предотвратить преступление.
В последнее время ему не давала покоя мысль, что в стране существует две реальности: там, в другой Украине, не этой, жизнь по-прежнему бьет ключом – рождаются дети, учатся, женятся, и не знают, что совсем рядом, в соседней области, идёт война, что там убивают людей, обстреливают их дома, школы, больницы… Но самое страшное, что делают это сами украинцы, на своей же территории… Украинцы убивают украинцев… Убивают самих себя…
Господи, как же болит голова!.. Боже праведный, неужели нет конца этим мучениям?! Кажется, будто боль уже просверлила дырку в черепе, а сейчас подбирается к сердцу… «Спаси, Господи милосердный! Спаси и помилуй!»
Богдан сжал голову, пытаясь унять боль, но перед глазами стояли разрушенные, сожжённые дома… Он закрыл глаза, но в ушах раздавалось: «Её прямым попаданием… Даже не мучилась…» Он зарылся под одеяло, зажал руками уши, но и это не спасло его от боли. «Пресвятая Богородице, помоги! Господи Боже, спаси и сохрани!..» – молился, будто в последний раз. Невероятной силы звук оборвал его молитву.
– Снаряд?! Не мой. Может, следующий мой?
Неожиданно все отошло на второй план – боль, тревога, смятение, осталось только одно – ожидание смерти.
– Господи Боже милосердный, прими мою душу!
– Богдан, ты чего там бормочешь? Тебе плохо? Позвать сестру?
Кто-то тормошил его за плечо. «Михаил, – узнал по голосу. – Да что же они, сговорились все, что ли? Добить хотят?!»
«У-ух!» – раздалось за окном, и на землю хлынул ливень.
– Гроза. Не снаряд, гроза, – прошептал чуть слышно.
– Что ты опять шепчешь? – ворчливо спросил Михаил, доставая из сумки какой-то предмет. – Грозы испугался? Как ребёнок малый, ей богу! Чего её бояться? Это ж не снаряд тебе, не мина, да по большому счету, и к ним привыкли. Устали жить в постоянном страхе. Держи подарок. Вот только не знаю, как твои сторожа отреагируют, наверное, опять меня выгонят?
В руках Миши появился рыжий котенок. Он принюхался, фыркнул, потом уверенно прошел к Богдану и улегся ему на грудь.
– Ты смотри, вспомнил. И чем ты его взял? – удивленно хмыкнул мужчина. – Ах, да, чуть не забыл… Мне ребята телефон твой передали, так я порылся в нем немного, по-родственному, так сказать, порылся… Ты же не обижаешься на меня, правда? В телефоне я номер супруги твоей нашел и перезвонил ей на всякий случай…
Михаил достал телефон и, словно в собственном, стал искать номер.
– Знаешь, она сначала мне не поверила, думала, подстава. Еле удалось убедить её в обратном, доказать, как всё на самом деле… Да что там размусоливать – на, общайся.
Богдан осторожно, будто стеклянную, взял трубку. После нескольких вызывающих гудков из неё послышалось:
– Бодя, ты? Это ты? Ты живой?..
Не успел Богдан ничего ответить, как в телефоне раздался какой-то шум, потом глухой звук удара, и после него – звонкий голос Ксюшеньки:
– Папа, папа, и взаправду, это ты? А мама брыкнулась, то есть упала – она сознание потеряла… Наверное, от радости, что ты нашелся, папа, – продолжила дочка, как ни в чем не бывало. – Но ты не переживай, хорошо? Здесь врачи есть, много. Они ей помогут. Они всем помогают…
Ксюша продолжала что-то трещать в трубку, а он ничего не понимал. Не понимал, где сейчас его жена и дочь, не понимал, почему там врачи, и почему их много, а ещё ему не понравилось, откуда у Ксюши это «брыкнулась»… Потом телефон отключился.
– Ты не переживай за родных, Богдан, у них все нормально. Я с Натальей разговаривал давеча… Они у брата её остановились. Татьяна учебу продолжит, в Петербурге. Ксюшу в школу определили, а сама Наталья в Центре приёма беженцев работает, волонтёром пока… Думаю, с работой у неё обязательно сложится – медсестры везде на вес золота, так что сильно не переживай.
Миша ещё пытался что-то расспрашивать о здоровье, рассказывать о своём, но после нескольких односложных ответов засобирался домой.
– Знаешь, Богдан, тут матушка моя тебе привет передавала, просила к нам заехать после выздоровления, поговорить… – Михаил неловко замялся. – Понимаешь, дело в том, что ты на отца больно похож, прям, как две капли воды, похож, вот матушка и хочет на тебя ещё разок взглянуть. Думаю, без расспросов здесь не обойтись – о маме твоей, о Ядвиге. Женская ревность, понимаешь ли… Ты подумай, если что… А коль отказаться вздумаешь, мы на тебя зла не будем держать, воля твоя…
Он снова упаковал в сумку Рыжика.
– Ну, выздоравливай,.. брательник. Если что – звони, я тебе номер свой вбил, найдешь там, в контактах…
Дверь палаты захлопнулась, но тут же распахнулась снова. На пороге стоял все тот же Михаил.
– И снова здравствуйте! Ты это… если надо чё, звони, не стесняйся, не чужие, однако… Мне ведь что? Да мне ничего, интересно даже – всю жизнь один, а тут – на тебе ваше с кисточкой, братан собственной персоной… Даже почти родной… Ну, так чё я говорил? А!.. Звони, это… Не стесняйся… брательник!.. Вот черт, все никак не привыкну… Надо же… Ну, я пошёл. Пока.
«Брательник», – повторил про себя Богдан. Брата у него, как и у Миши, тоже никогда не было, как, впрочем, и сестры. Единственными родственниками долгое время оставались бабушка и мама. И ещё – отец… Папа… Да, папа, но это, как оказалось, отдельная история… Потом появилась Наталья, затем – дети… Вот и все родственники – на одной руке можно сосчитать, но дело в том, что все они – свои, родные, а вот Михаил…
Михаил – чужой. Чужой по определению. Как он там говорил? «Даже почти родной»? Нет, не родной… И даже не «почти», и его появление не сулило Богдану ничего хорошего, разве только головной боли добавилось. Его другое сейчас беспокоило – как там жена с девочками. Брат Наталью не обидит, понятное дело, но у неё муж есть, дом…
Он вспомнил первую встречу с женой, свадьбу, рождение детей… Вспомнил, как у Тани прорезался первый зубик, и она смешно стучала по стенке чашки, когда пила воду… Вспомнил, как Ксюша однажды принесла домой бездомного котенка, а чтобы ему в рюкзаке не было тесно, учебники и тетрадки в школе оставила… Задумавшись, он даже не заметил, как в палату вернулась Татьяна Ильинична.
– Пришла я, – устало улыбнулась она. – Володя ещё в процедурном, девочки обещали после перевязки привезти.
Женщина присела на краешек стула, будто в гостях, выпрямила спину, сложила руки на коленях и застыла. Богдан тоже молчал. Каждый молчал о своем.
«…Никогда не думала, что замуж за шахтёра выйду. Не понимала, как это – спускаться в забой. Ты на шахту, а я – на колени, просить у Пресвятой Богородицы защиты – и тебе, и себе. Ты не оставляй меня, Володя, нечестно так, не по-совести – война у порога, а ты же знаешь – я взрывов боюсь… Помнишь, на шахте газ взорвался… Я онемела тогда, говорить не могла… Даже когда тебя на-гора подняли, живого-невредимого подняли, не могла слова вымолвить… Про себя кричу, а другим не слышно.
А ещё я мышей боюсь, ты же знаешь, и крыс… Мне недавно соседка рассказывала, что в войну крысы в дома шли, в ту войну, Отечественную, с немцем… А кто их знает, как они себя сейчас поведут? И темноты я боюсь… И… И как же я без тебя одна, а? Не выживу ведь, помру без тебя, Володенька, на второй день после тебя помру…»
«…Обещаю тебе, что больше никогда не брошу… Куда ты, туда и я. Не захочешь во Львове жить, продадим квартиру, в другом месте купим, там, где тебе понравится, где тебе удобно будет… А мне… мне все подойдет, лишь бы ты была рядом. Ты и девочки…»
В этом молчании медсестры вкатили тележку со спящим Владимиром Ивановичем.
– Спит. Устал он в жизни сильно, силу потерял… – положила Татьяна Ильинична удобнее руку мужа. – Я ведь в молодости быстрой была, все в руках горело, всюду успевала. После работы – репетиция хора, пьесы какие-то, постановки… Всего и не припомнишь… А потом – танцы. У нас отдыхающих много было, особенно зимой… По профсоюзной путёвке приезжали, рабочие в основном. Однажды парень мне приглянулся. Видный такой, красивый, разговорчивый – не переговоришь и не остановишь… Севой звали… Всеволод, значит. Гляжу, и он ко мне неравнодушный, все Танечка да Танюшенька. Ну, думаю, пропала девка!
Прибегает однажды он ко мне: «Просьба к тебе, Танечка, имеется, помощь нужна. Тут ко мне друг один приехал, так его… Ну, сама увидишь». Чего уж, думаю, помогу, если надо, люди хорошие, чего не помочь? Так вот, приводит Сева этого друга своего и официально так: «Знакомьтесь, Татьяна Ильинична, Владимир. Прошу любить и жаловать».
Я сразу и оробела от официальности такой, а затем в себя пришла, глаза вверх подняла, смотрю… А он, батюшки мои светы, сам длинный такой, высокий, что тебе жердь, и тощий-тощий, будто с креста снятый. Я так и обмерла вся – никогда в жизни таких худющих не встречала. Ты бы его видел – одни кожа да кости! Такого жаловать ещё куда ни шло, а вот любить?.. С любовью тут не получится, думаю, да оно и без надобности…
Потом оказалось, что Володя тогда после болезни был – простыл где-то, воспаление подхватил, двухстороннее, и вес, и силы потерял… Как вот сейчас… Взяла я, значится, шефство над ним – откормить пообещалася. Так и пошло: всем норму – ему полторы, да ещё пирожок свеженький, да тефтельку на добавочку, да котлетку с конфеткой… Девчата на кухне первое время смеялись, потом, вижу, тоже прикармливать стали – «я твоему Володьке то, а я твоему Володьке это…» Будто игра такая получилася… Так три недельки и пролетели, как пить дать. Привыкла я к нему, уже и на худобу внимания не обращаю – мой, да и мой. А однажды…
Женщина встала, подошла к окну. Богдан видел только её силуэт, а еще лицо, лицо со свадебной фотографии – молодое, задорное, с румянцем во всю щеку, совсем непохожее на нынешнее – уставшее, с горькими складочками у рта. Через минуту Татьяна Ильинична продолжила свой рассказ:
– Прихожу однажды я на смену, а их нет – ни Севы нет, ни Володи. Уехали, не попрощавшись. У меня будто сердце из груди вынули, даже не думала, что буду так переживать. Обиделась я сильно тогда… На весь мир обиделась. По вечерам дома сижу, никуда не выхожу – кружки забросила, хор… На танцы – ни ногой, сижу, реву, себя жалею.
Но люди говорят – время лечит. Таки правду говорят. Начала и я в себя приходить. Потихоньку, правда, полегоньку, но дома уже не запираюсь. И вот выходим мы однажды с Настюхой, подругой моей, из кино, с последнего сеанса, а в самый аккурат возле выхода Володька мой стоит, небеса головой подпирает.
Ну, думаю, устрою я тебе самодеятельность, дорогой, чтобы знал, как девушек бросать, чтобы впредь неповадно было. Сделала вид, что не знакомы, Настю под руку и вперёд. Он – за нами: «Таня, подожди!» да «Танечка, прости!». А мы, знай своё, ещё быстрее побежали. Молодые были, зеленые… Сейчас, как вспомню, смешно становится, а тогда… тогда казалось, что именно так и надо было поступать. Время было другое, люди другие… Наивные мы были, бесхитростные, не то, что современная молодежь…
Так вот, бежим мы и не оглядываемся даже, и вдруг я слышу: «Татьяна, стоять! Разговор серьёзный к тебе имеется!» От неожиданности стала, как вкопанная. Не привыкла я, понимаешь ли, к такому обращению, дай, думаю, отвечу счас. А Владимир-то мой не стал ждать, к нам подошел и с ходу: «Выходи за меня замуж, Танюша. Жить без тебя не могу». Даже обижаться перехотелось. Так и живём с тех пор душа в душу. Состарились уже… Дети, внуки…