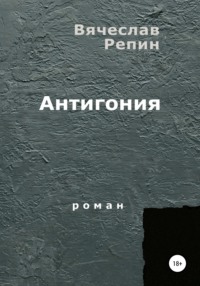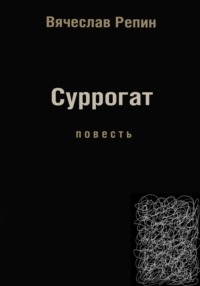Полная версия
Повести о русской жизни
Жизнь тех лет была полна идеализма. Сегодня таким понятиям не было места. Что говорить о неземном, небесном, во что можно верить еще больше, больше чем в саму жизнь? А ведь этому так хотелось когда-то посвятить себя всего. Правильными ли словами всё это называлось? Много ли повстречалось за эти годы людей, которые примером своим, жизнью, складом личности, демонстрировали бы главную, непреложную истину, что Бог существует, что Бог есть любовь, что возлюбить ближнего человек не только должен, но и способен.
Если судить строго – не повстречалось ни одного такого человека. Да, он любил покойную жену. Да, он любил дочь. А еще раньше любил мать, отца, сестру, брата, бабушек и дедушек. Но все близкие – это плоть от плоти. Дорожить этим нетрудно. На это способна даже тварь. Дикий зверь способен загрызть другого, послабее, менее проворного, чтобы скормить плоть своей жертвы детенышам.
Вот и получалось, что любить ближнего – это не просто чувство, а нечто совсем иное. Получалось, что если не судить строго – это значит не судить вообще. А отсюда, с подобной размытостью в представлениях, понять и вовсе невозможно ничего ровным счетом. Невозможно становится отделить плевела от зерен.
Смешивать, сравнивать. Да и самому в итоге сравняться, смешаться, растратить душевные силы, – да, это проще простого. Но на то ли растратить, что нужно? Ради этого ли приходилось ходить в рясе, крест носить перед собой и размахивать кадилом?
Люди все разные. Нет ни одного похожего. По-разному все и несовершенны. И верить в людей тоже можно самыми разными способами. В Бога же можно верить только одним-единственным способом. И переносить эту веру на людей вроде бы нетрудно. Иногда даже казалось, что только в этом смысл веры и заключается – в самих людях. Но от общения с людьми возвращаться к Богу бывало так трудно, что под вопрос приходилось ставить всё.
Однако и этот жизненный поток однажды иссякает. Всё меняет однажды свое русло. Между тобой и другими разницы нет. Ты не можешь к людям относиться хуже, чем к себе. Но это ли и есть любовь? Для этого пришлось бы любить себя, немощного, несовершенного, падкого до низменного, не уверенного в себе, сомневающегося во всем. И разве что последнее остается, последний рубеж – вера в Бога. В то, что Он есть и должен всё знать, всё видеть и всё терпеть. В том, что Он просто должен быть. Ведь не будь Его, всё потеряло бы смысл окончательно. Но даже это человек понимает через силу. Получалось, что служить по-настоящему можно только Богу. Ну а люди, что же делать с ними?..
Это и было тем падением, тем сползанием в низменное, на что душа вроде бы наложила запрет. Даже здесь, даже в высоких помыслах, лишенных корысти и эгоизма, удавалось пасть на самое дно…
В молитве не так трудно достичь уровня, когда она утешает, заживляет, наполняет душу тем родным привкусом чего-то домашнего, доброго и немного сладкого, совершенно незаменимым, невосполнимым ничем другим, что без этого уже не можешь ни есть, ни пить, ни дышать, ни думать, ни спать.
Но только не в этом же главное. Даже молитву и то умудряешься использовать для своего падения, чтобы упасть помягче. Умудряешься ее использовать для утоления слабостей своих, низменного. А ведь молитва – для другого. Так учат те, кто постиг всё. Молитва – для других, для людей, для помощи ближнему и для его спасения.
И вот здесь всё становилось сложно, сложнее некуда. Одних усилий ума и воли было уже недостаточно. Воли не хватало даже на то, чтобы служить, ходить с крестом и кадилом, чтобы делать всё это ради падших, брошенных, забытых. Да еще и заслуживающих своей участи…
Слезы текли по лицу у Марьи Гавриловны, пожилой прихожанки и прислужницы, когда она говорила об упокоившейся сестре, тоже старухи, погребенной день назад. И он, какой ни есть, но батюшка, утешал прихожанку с чувством самой неподдельной скорби, хотя и знал, что она подворовывает купюры из тарелки с подаянием, и даже сам ей подавал, еще немного в придачу, когда староста докладывал о случившемся, – подавал рублей пятьсот «на хлебушек», и делал это не сразу, а позднее, чтобы несчастная не заподозрила, что о краже денег известно. Однако и это проделывал с некоторым отвращением, чего уж там? Зачем лгать себе? Этот «хлебушек» застревал потом в горле…
Слезы текли по лицу у Танечки Тополецкой, пришедшей на исповедь впервые. Безутешно поверженная своим горем и отчаявшаяся после гибели сожителя Николая Степаныча, по пьянке утонувшего в местной речке, бедняжка не могла найти мира в своей душе и сегодня, потому что изменяла покойному, когда он был еще жив, да и не раз, как теперь выяснялось. Скорбя с ней в унисон, понимая горе ее и умом и сердцем, и как бы даже плотью, потому что хотелось едва не физически пожалеть ее, прижать к себе как больного ребенка, чтобы утешить, чтобы избавить от непосильной душевной тяжести. Но и здесь присутствовало усилие над собой, холодноватая циничная боязнь, несмотря на сутану и епитрахиль, боязнь прикоснуться к чужой грязи, отвратительной, низменной и даже с запахом…
Слезы наворачивались на глаза и у больной, безмозглой тетки, что отравляла жизнь родне и близким глупостью своей, и вовсе не той книжной глупостью, о которой за столом трепался Кураедов, а глупостью грубой, плебейской, природной, замешанной на хамском эгоизме, скрыть который некоторым не под силу даже на исповеди: мол, не тяни резину, отпускай, чего приставать с расспросами, на очереди вон еще сколько желающих…
Всплакнуть где надо умел и больной черствый старикан, не способный выучить ни одной молитвы длиннее самой короткой, Иисусовой. Вчерашний военный прокурор и взяточник сегодня жаловался на презрение к себе со стороны собственных детей, таких же сегодня, как и он, «прокуроров», только не военных, а обыкновенных, что разъезжали по дачам своим на джипах ценой в три миллиона рублей.
Нюни готов был распустить и парнишка, опять и опять каявшийся в погибели всё того же пьяницы, в сексуальных позывах к девушке-инвалиду, в рукоблудии, во всех смертных грехах. И так до бесконечности, до упаду…
Всё это, конечно, вылетало из головы, улетучивалось, растворялось в мире реальном, что сглаживал изъяны растяжимостью любой морали, в мире, постоянно куда-то несущемся, без продыху, без остановок. Но стоило на миг притормозить себя, стоило задуматься, уделить людям толику внимания, стоило дать душе свободу выбора, позволить душе самой определять, что есть что и кто есть кто, и душа сжималась в комок. От беспомощности, от сожаления, от немощи… Еще, пожалуй, и от испуга. Потому что здесь опять что-то не сходилось. Сомнения не вязались со званием, с облачением, со служением. И раскаиваться приходилось уже самому. В том же бессилии, в неспособности разделить с людьми греховности, покаяния, в немощи духа своего, в неспособности докапываться до дна собственных грехов. Кроме этого раскаиваться хотелось и от смирения перед системой, которая всему этому попустительствовала, допускала это как слабость, как меньшее из зол, как простоту, без которой нет святости. Еще бы! Лишь бы сами устои не пошатнулись. Лишь бы сор не выносился из избы. Лишь бы не иссякал источник всего и самой веры, стремление быть лучше, чем ты есть. А там Бог, мол, рассудит, поправит всё и расставит по своим местам. Не волен это брать на себя человек.
Все эти слезы, грехи и раскаяние тяжелы были как раз тем, что напоминали о таких же или схожих грехах, когда-то совершенных самим, давно прощенных, отпущенных и вот, получалось, незабываемых, вечных…
* * *
Как-то в субботу паренек заявился на вечерню с той самой девушкой аутисткой, о которой уже столько было разговоров. О. Михаил не сразу понял, что именно из-за этой девушки и велось недавно следствие, из которого пришлось вытаскивать и самого паренька.
Как две случайные перелетные птицы молодые люди держались особняком, в правом приделе. Когда паренек подвел девушку к кресту, та поцеловала его губами, по-настоящему, взяв крест руками. Обескураживающе.
И уже после, увидев обоих на скамье возле плотницкой, на свободном пяточке двора, где последний поздний снег вроде бы успевали счищать и плотник и рабочие, о. Михаил принес обоим из трапезной пирожки. Протянув теплый пакет молодому прихожанину, батюшка на миг замешкался и с непонятным удивлением разглядывал девушку.
Та взирала на него снизу вверх светлыми невинными глазами, по-детски улыбалась и продолжала запускать в рот мармелад в сахаре, доставая дольки одну за другой из пластикового пакетика, которые держал перед ней паренек.
– Давно не видно тебя, – сказал о. Михаил, констатируя, что опять не помнит имени парня. – Похудел, что ли?
– Да нет, я здесь, – отчего-то оробел тот и взглядом показал на окна плотницкой. – А это Анна… Я говорил уже.
Настоятель кивнул:
– Я догадался… Спасибо, что пришла. Как дома-то дела, Анечка? – спросил батюшка с необычной мягкостью в голосе.
Анечка покосливо улыбалась, не переставала жевать.
– К нам-то ходишь иногда, или так?
– Хожу. – Девочка издала смешок, лицо ее озарилось яркой, благодарной улыбкой.
– Я в субботу прихожу с ней, – пояснил паренек, – иногда.
– Ну и хорошо, что в субботу. – О. Михаил Тарутин не знал что сказать. – А живешь ты где?
– Да рядом, соседи мы почти, – ответил другой за девушку.
– Ну ладно… А Лука-то заболел? – О. Михаил тоже повел взглядом на окна плотницкой.
– Да выздоравливает уже.
– В больнице всё?
– В больнице.
– Ездит кто?
– Я был сегодня. Мы с Анной…
– Ты заходи к нам, Анечка. – О. Михаил хотел было идти своей дорогой, но еще помедлил. – Я тебя с дочерью познакомлю. Ее тоже Аней зовут.
Девушка вслух засмеялась, пряча чистые детские глаза в веки…
И он, батюшка, уже не знал, что на него нашло позднее. Опять зайдя в трапезную, но немного машинально, не зная зачем, он вернулся в храм забрать свою шапку. И чувствуя внутри неприятную неуклюжесть, он суетился, медлил и вдруг, думая о девушке инвалиде, фактически еще ребенке, воочию видя перед собой ее чистый взгляд, глуповатую наивную улыбку, он почувствовал, что в горле у него запершило. По лицу вдруг покатились слезы и так неудержимо, что он боялся разрыдаться вслух. Услышат и не поймут. Что делать?
Он так и сидел на стуле в каморке-прихожей, служившей раздевалкой, рукавом стирал слезы и молился в ожидании, что слабость утихнет, отпустит.
Перед сном, уже в кровати, натянув на ноги вязаные носки, чтобы согреться, о. Михаил думал всё еще о пареньке, о его девушке. Не хотелось слушать ни радио «Вера», по которому парижский проповедник с едва заметным, но дурманящим акцентом рассуждал про веру «настоящую и ненастоящую» и видимо свято верил сам, что вера может иметь такие ухищренные разновидности, что она может быть какой-то другой, кроме как настоящей. Не читалась и книга, подаренная Кураедовым, – книга-брошюра, написанная вроде бы архиепископом, своим же. Но так и не удавалось пока осилить текст даже до середины. Казалось удивительным, насколько некоторым служителям, особенно тем, кто живет вне России, необходимо упражнять свою душу на логических построениях, «апофатически» доказывать и без того очевидные вещи, как будто это входило в обязательный служебный комплект знаний и навыков.
Не воспринималась как-то диванная философия на фоне жизни, которая вовсе не выглядела проще, примитивнее. Скорее наоборот. Жизнь требовала не просто умственных потуг, необходимых для выстраивания непростых логических цепочек, которые спасали бы от самых заурядных заблуждений. Жизнь требовала конкретных решений и поступков. Тогда как на них не то что сил не хватало. Не хватало самого понимания, как их принимать, эти решения, как осуществлять, настолько они выглядели неоднозначными и иногда даже опасными в силу своей необратимости.
И он вдруг вспомнил рассказ паренька, услышанный давно, на одной из его исповедей, о том, что ночами ему снится один и тот же сон. Сидит он, мол, на берегу у костра. А мимо плывет в речке покойный Николай Степаныч, – вот и имя наконец запомнилось. Он, паренек, кричит ему с берега:
– Эй, полковник, это вы?
– Я! – отзывается тот.
– А ты кто? Кто ты? – И плывет полковник дальше, исчезает где-то за камышами.
«А я не могу ответить… Я не знаю даже, как зовут меня», – рассказывает дальше паренек. – «Забыл даже имя свое»…
Странное это было воспоминание. Странное именно тем, что и сам он постоянно забывал имя паренька. Это происходило с некоторыми прихожанами и раньше. Но нечасто и как правило с людьми далекими, чужими.
Дочь Анна набрала по шкафам одежды, которой давно не пользовалась, уговорила еще и двух подруг привезти всё лишнее, ненужное, но в чистом и глаженном виде. В понедельник с утра пораньше староста дозвонился опекунам девушки. И к вечеру Анна, дочь о. Михаила, съездила навестить девушку с увесистым пакетом почти неношеной одежды. С кухни передали пакет печенья. А от себя лично, с отцом своим ни о чем больше не договариваясь, она передала конверт, в котором лежало три бумажки по тысяче рублей.
Домой Анна вернулась с теми же впечатлениями, от которых не сразу отошел и отец после появления девушки на службе. Анна была растрогана, молчалива. Ну что, собственно, обсуждать? Несчастье есть несчастье. Некоторым людям оно посылается без всякой причины. И это было, пожалуй, единственным, что не укладывалось в голове.
За чаем вечером просто молчали, как это часто теперь случалось, с тех пор, как жили вдвоем. Обычай вечерами сидеть вместе за чаем появился не так давно, уже после кончины матушки. В свои тридцать лет замуж выходить Анна не торопилась. Забота отца, его стремление проводить с ней как можно больше времени, заменяли ей теперь и мать и всё остальное. Но она и сама этого не могла себе объяснить. Это была не просто любовь к отцу, а какая-то погоня за временем, как ей иногда казалось, которого не хватило в свое время, чтобы побыть побольше с покойной мамой, и об этом теперь приходилось сожалеть часто.
– Молчишь-то чего? Не ожидала?
– Не ожидала, – призналась дочь. – Некоторым людям… Им так бывает…
– Не везет?
– Ну да.
Отец молчал, а затем сказал:
– Это с нашей колокольни так кажется. – Дальше он мысль не развивал.
– Я знаю… Но всё-таки.
– Бедно живут?
– Нет, не то. Не бедно, скромно… Она, эта девочка как будто не знает, как ей трудно, не понимает. Поэтому вся радостная, улыбается. Вон на нас посмотри… Ах, папа! – остановила она отца, который сразу хотел ей возражать. – Я знаю, что ты скажешь. И ты прав.
Оба с чем-то вдруг смирились и молчали.
– Иногда мне кажется.., – хотела было добавить дочь, но не находила слов.
– Сердцу не прикажешь, – понял отец.
Анна вздохнула:
– Нет… Ты заметил, что мы стали думать одинаково после того, как мама?..
– Заметил.
Легли не поздно. В тот же вечер о. Михаил принял решение навестить местный интернат для отсталых детей, в котором не был уже два года.
* * *
В зимние темные дни очень хотелось спать, лишний раз перекусить, а часто еще и выпить. С началом поста становилось легче во всех отношениях. А когда выдавались яркие солнечные дни, очень хотелось вообще ничего не делать, сидеть просто и жмуриться от солнца да дышать морозным воздухом себе в удовольствие.
На скамье перед плотницкой вместе с пареньком они разговаривали днем среди недели о чем-то случайном. И от этого было особенно хорошо.
Всеволод – паренька звали Всеволодом, теперь его имя не забывалось – отлынивал от занятий в городе, свою «цифру», информатику с математикой, окончательно променяв, получалось, на доски, стамески, рубанки.
Всеволод расспрашивал сегодня о какой-то своей чепухе, которая не давала ему покоя. О том, нормально ли видеть присутствие Бога в цифровой реальности? Сам он мог якобы привести десятки и даже сотни примеров, которые чисто математическим способом подтверждали бы невозможность случайных цифровых комбинаций. И в том-то вопрос – для него, для Всеволода, – что в каждом примере всегда присутствовало что-то личное, вовсе не случайное. И от противоречивого ощущения, от смеси объективного с личным, субъективным, всё становилось неожиданно запутанным.
– А так и бывает. Каждый находит свои подтверждения, свои доказательства, – вздыхая, поправлял подопечного о. Михаил. – Доказательств-то тоже несметное множество. Вот так…
Ему вдруг думалось и о своих увлечениях молодости, когда еще получалось боготворить искусство, его возможности, прошлое его и историю, когда так легко удавалось абсолютизировать неабсолютное, потому что мир казался и непостижимым, и восхитительным из-за одной своей сводимости к зримым или угадываемым пропорциям и почему-то именно от этого представал глазам еще более многообещающим, обнадеживающим, как бы больше тебе принадлежащим. Множество множеств, вся эта «фрактальность» – сначала это восхищает, потом отпугивает, а позднее… Позднее сходит всё к однообразию, к равнодушию. Потому что перестаешь понимать, что же для тебя всё-таки лучше. А заодно и перестаешь понимать себя самого.
Всё это казалось сегодня настолько наивным в сопоставлении с реальным миром, с неисчерпаемой бездной таких же вариаций, которые переполняли мир, и даже одного отдельно взятого человека, душу его, его природу и судьбу, со всей невероятной непредвиденностью всех ее возможных и часто неотвратимых поворотов, что и сравнивать-то казалось не с чем.
– Многообразие приводит к единообразию, – объяснял батюшка, сидя на скамье. – Но это единобразие другого типа, другого масштаба. Так устроена жизнь. В ней всё кругами. Но давно, видимо, выровнялось единообразием. Хотя человек, в силу ограниченности своей жизни, кажется периодичным, ступенчатым. Так легче примерять мир на себя, наделять его подобием себя самого. Даже Богу хочется иногда приписать это подобие. Так Он ближе вроде, понятнее, роднее. – Батюшка взял себя за колени. – Про подобия я пошутил. Это вещи несовместимые, – сказал он. – Или ты не понял?
– Понял… Понял, – заверил Всеволод и улыбался.
– Жалуются на тебя.
– На меня? Кто?
– Да есть кому… Питаться-то ты совсем перестал?
– Нет, почему…
– Худой… Ты на себя смотришь иногда? Ограничивать себя – не значит морить голодом. Я тебе уже говорил.
– Да кто вам сказал, что я…
– Сам вижу, не слепой. Ты что ел на завтрак?
– Ну гречку…
– Гречку. И всё?
– Ну пост же.
– Посмотри, чем у нас в трапезной кормят. В пост, как ты говоришь. Почему со всеми не ходишь обедать?
– Так это же для тех, кто работает здесь.
– А ты не работаешь?.. Ладно, завтра ты опять здесь? Чтобы пришел со всеми…
* * *
В июне, в первые теплые дни, Том повез гостя, к матери приехавшего на побывку, порыбачить с катера. Небольшой катамаран с рулевой стойкой и мощным двигателем он держал на вечном хранении у знакомых в бывшем рыбацком поселке.
Рыбы не наловили, погода выдалась неподходящая. Зато наглотались йодистой свежести океана, до одурения покачались на волнах Кельтского моря, плавно-тяжелый, темноватый вид которого Тому напоминал всегда что-то печальное из детства тех времен, когда скончался отец, а мать болела, и опекунская служба отправила его с братом в приморский интернат для малоимущих, где они и провели почти два года.
После рыбалки три дня гостили у дяди под Мэллоу, шлялись по городу. Но больше всего гость, как и его мать, радовался поездкам на велосипедах по окрестностям – в солнечный день, с корзиной для пикника, с остановками в местных сельских церквушках. Такими Том и привык видеть всех русских. Русские казались ему людьми городскими.
С городом, с самим урбанизмом они умели поддерживать какие-то простые и ясные отношения. Но в душе всегда оставались привязанными к земле, к природе, как исконные сельские жители.
На приезде сына жены в гости Том настоял сам, хотя жена отговаривала его от трат, от никчемной суеты, – так ей казалось. Она считала, что лучше опять съездить в Россию, лето предстояло еще длинное. А осень бывала на Клязьме особенно красивой.
Том не жалел о своей настойчивости. Со дня приезда сына Аквамарина не сводила с мужа-ирландца благодарных преданных глаз. В ней даже внешне что-то изменилось. Ей стало легче, проще. На душе у нее что-то развязалось. На долго ли? Сын приехал на три недели, да и то лишь под нажимом самого Тома, а так бы, если бы мог распоряжаться датами своего билета, уже через неделю сорвался бы обратно. Всеволод не хотел никого стеснять.
Не оставляли Тома и зыбкие надежды, что сама природа, теплые семейные чувства, которые Аквамарина не привыкла афишировать, помогут что-то сдвинуть в себе, как советовал им врач из клиники планирования семьи, где они наблюдались из-за беспричинной бездетности. Зачать ребенка не получалось. Поначалу врачи искали причину со стороны Тома. Последствия перенесенных заболеваний с возрастом могли дать о себе знать. Довольно примитивное первичное лечение сводилось к массированному потреблению качественных протеинов в виде мяса, рыбы, витаминов – в том же виде. Но под вопрос ставился и возраст Аквамарины.
В России редко рожают после сорока лет. Статистику знали даже дублинские врачи. Ситуация застала обоих врасплох. Брак, который оба они воспринимали как настоящее везение в личной жизни, без ребенка оказывался неполноценным.
Небольшая церковь на окраине придорожного, соседнего села, улочки которого пересекали каждый раз, когда ездили кататься на велосипедах, привлекала особое внимание Всеволода. Он всегда норовил здесь задержаться. Ему хотелось зайти внутрь, посидеть какое-то время. И всякий раз он молчаливо улыбался согласию своих спутников. Парень Тому положительно нравился. Своей сдержанностью, молчаливостью. Мать казалось Тому понятнее, чем сын. Но так ли это существенно в отношениях между людьми, когда они понимают друг о друге главное?
Они могли запросто проводить время молча. И от этого было не тяжело, как случается с большинством людей, а напротив легко, беспричинно просто. Иногда Всеволод нарушал молчание, ни с того ни с сего обращаясь с каким-нибудь вопросом, интересуясь, как будет по-английски то или иное слово. Его английский быстро пополнялся местной лексикой. И эта смесь «компьютерного» английского с местным ирландским даже незнакомых людей обескураживала бывало какой-то чужестранной точностью выражений.
В пустующем гараже, которым давно не пользовались, Всеволод устроил домашнюю мастерскую и занимался починкой антикварного шкафчика, который мать использовала для личных вещей. Показывая ему инструмент, и электрический, современный, и старый, допотопный, Том пытался было обучить гостя всем известным ему самому названиям.
Но Всеволод знал уже почти все слова. Рубанок, стамеска, струбцина. Том даже растерялся и кулаком поддал парню по плечу. Мол, век живи – век учись. Но не ты, а я сам…
Вечерами, возвращаясь с работы, перед церквушкой на въезде в поселок Том заставал велосипед Всеволода. Он парковал машину и заходил в крохотный храм, обычно пустующий. Всеволод обычно сидел справа на крайней скамейке. Том присаживался рядом. Обменивались улыбкой, жали друг другу руку и так сидели пару минут. Не сговариваясь, молчали.
Говорить здесь не хотелось. Старые кельтские камни навевали задумчивость. Дух Ирландии, давно умиротворенный, и с этим до сих пор нелегко было свыкнуться, казалось, наполняет и насыщает здесь каждую щель, даже сам воздух. В этот мир не хотелось вторгаться ни словом, ни шорохом, ни праздной мыслью.
За пару дней до отъезда Всеволода домой, в субботу около пяти вечера, Том опять застал его в церквушке, и Всеволод рассказал ему и нелепом происшествии:
– Какой-то старик заходил. Постоял, спросил, кто я.
– И что ты ответил?
– Сказал, кто я… Русский, говорю.
– Удивился?
– Да нет… Назвался настоятелем. – Всеволод использовал правильное для католиков английское слово. – Бывшим настоятелем.
Том усмехнулся и спросил, как выглядел шутник.
Всеволод не сразу понял, в чем суть. Дело же было в том, что настоятеля в этой крохотной церкви не было уже много лет.
– Старый, с палкой. Бритый, но волосы белые до плеч, седые, – описал Всеволод. – И хромой.
Когда вышли на улицу, Том повел его на приходской погост за каменной стеной. Могил здесь было немного, все старые, заросшие мхом и плющом. Показав на одну из могил, Том сказал:
– Здесь он, бывший настоятель… В мэрии его фото вывешено. Невысокий, с длинными белыми волосами и с костылем… А нового нет уже сто лет, по-моему. Люди в соседний храм ходят. На той стороне, за рынком, помнишь? А здесь просто так всё открыто. Мэрия присматривает, как за музеем… Говорят, странный был человек. С иерархией не ладил. Бездомных содержал за счет прихода. Властям не давал покоя. Старик с палкой разыграл тебя. Хотелось бы знать, кто этот шутник…
* * *
В воскресенье утром Аквамарина накрыла ранний завтрак на террасе. Кофе, тосты, для Тома яичница – довольно необычное блюдо с подзолоченным на масле луком и помидорами, которого никто не умел готовить на оливковом масле так, как она, и непременно в русской чугунной сковороде, которую она привезла с собой с Клязьмы.