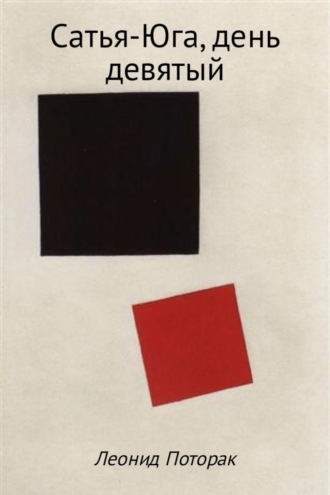
Полная версия
Сатья-Юга, день девятый

Где только снег, только зима – и никакой рекламы…
М.Щербаков «Сердце ангела».
Серафим
Хороший кофе не должен бодрить. Он должен воскрешать из мертвых.
Не то, чтобы я часто им пользовался.
Когда-то, не помню в каком году, мне понадобился человечек, который никак не хотел воскреснуть, и помогла только чашка крепкого эспрессо, да и та не сразу. С тех пор я справлялся своими силами. Не такое уж это частое дело – воскрешение из мертвых.
Латте, вспоминал я, стряхивая снег с ботинок. Латте, капучино, арабика,растворимая гадость. Что-то еще я помню?..
По обе стороны от дороги лежали огромные снежные валы, и, чтобы добраться до автобуса, пришлось через них лезть. Я извозился и, когда добрался-таки до заветного экипажа, вызывал у попутчиков непроизвольную жалость. Это было плохо, это было не по плану, и я чистил подвернутые брюки перчаткой, борясь с желанием исчезнуть из этого автобуса и слетать по прямому маршруту на Красина восемнадцать. Но вот стоял и чистил, потому что сказано было: узнать город. А с шефом я предпочитаю не спорить.
Я вообще с ним не спорю. Более того, я уже очень давно с ним не общался. Думаю, рано или поздно у всех отпадает необходимость общаться с ним. Когда, собираясь в энную дорогу, я обдумывал свои вопросы к начальству, вдруг ясно почувствовал, что знаю, каким будет ответ шефа. А что со следующим вопросом, подумал я, и небольшой внутренний шеф ответил мне.
Тогда я понял, что мне больше не нужно с ним разговаривать и его видеть.
Шеф сказал изнутри: надо узнать город. Он любил усложнять задачу, мой шеф. (А еще он напомнил, что в истории замешан кофе. О кофе я знал до смешного мало. После того человечка с эспрессо никто из наших, насколько я помню, кофейными напитками не интересовался. И слышал-то я упоминания о них только вскользь. «Сегодня кофе как вино! – И долго в греческой кофейне гремели кости домино»1. Хорошие стихи).
На третьей остановке меня выдавили из автобуса пробивающиеся к выходу студенты с тубусами. Я пропустил их и попытался втиснуться обратно, чем вызвал страшное возмущение объемной женщины лет пятидесяти:
–Вы следующего автобуса подождать не можете? Видите, что места нет!
–Есть, – я не дотянулся до поручня и уперся рукой в мутное окно (не выдавить бы!) – Я как раз тут стоял.
–Не врите, – сказала женщина с вялой укоризной. Ей было трудно стоять. – Вы только что зашли.
Тут стоило отвернуться и ехать дальше молча; с такими вот женщинами спорить еще хуже, чем с шефом, но я успел это подзабыть.
–Меня вытолкнули, – сказал я.
–А я что, виновата? Ну вы видите, что места нет…
–Не виноваты вы, – я вспомнил хорошее и стал улыбаться. Женщина смотрела на меня, как на больного. – Никто, понимаете, не виноват. Никто больше ни в чем не виноват, понимаете?
–Вы в своем уме?
–Да.
Она отвернулась и ехала дальше молча.
Мне нравилось говорить непонятно, это было единственное, что я мог себе позволить тут, в автобусе. И тот, к кому я должен был, в конце концов, прийти, тоже довольствовался этим. Должен был. А в общем-то – мне нравилось просто быть тут, а не возиться со своими ребятами, притворяясь важным начальником. Не орать заученные и повторенные тысячи раз распоряжения. Трястись в Икарусе и чувствовать себя человеком. Н-да…
–Никто больше не виноват, – весело сказал я в спину пропахшего табаком старика передо мной. На меня стали оборачиваться. – Вы сами не понимаете, как счастливо живете последнюю неделю.
И тут слева и сзади так пахнуло кофе, дрянным растворимым порошком, что я вздрогнул и отпустил поручень, машинально поднимая руку навстречу запаху. Слишком долго я думал о кофе как о неотъемлемой составляющей жизни клиента. Слишком, наверное, напряженно готовился, хотя сам не желал в том признаваться. Сработал дурацкий рефлекс, которого по всему у меня не могло быть. Люди качнулись в стороны – еще бы им не качаться, когда рядом человек несет бред и машет на мужчину (теперь ставшего заметным в проходе)в черной куртке, с сокрушенным видом вытаскивающего из кармана разорванный красный пакетик. Рука мужчины вся была густо обсыпана мелким коричневым порошком.
–Что? – испачканный кофе пассажир поднял глаза. Кажется, он один не заметил моего жеста.
Я выдохнул. Клиент не ехал со мной рядом, не следил за моими выходками, не знал обо мне вообще. Глупое совпадение: пакетик порвался в тот момент, когда я бессовестно разглашал людям… а что, собственно, я им разглашал? То, что они сами обнаружат через день-два?.. Нет, зря я испугался, непозволительно для меня.
Я огляделся, и они забыли обо мне, о моих странных словах, о моем испуге. А в женщине, что боролась за место, я увидел то, что искал всегда и чем занимался всю жизнь – нечто вроде желтого светящегося треугольника справа в душе; конечно, не совсем ровного, но все-таки треугольной формы. Не слишком большим он был, меньше прошлого, но упускать нельзя и такие; и я осторожно расправил его углы, заставив их стать ощутимыми и живыми. Когда я выходил, женщина писала на запотевшем стекле что-то, ясное только ей.
Тем временем
-Сосулька упала.
–А, – Женя отвернулась от окна. – Я думала…
–Что?
–Да ничего, наверное. Неожиданно просто было.
–Сегодня на Киевской огромная сосулька сорвалась, – вспомнил Всеволод. – Пробила стекло машины, я слышал. Потому что парковался мужик в опасном месте.
–Крыши чистить надо, – сказала Женя и сломала карандаш о четвертую страницу журнала. Под кроссвордом оказалась заложенная между листов линейка.
Всеволод рылся под прилавком, цепляясь собранными в хвостик волосами за жвачку. Эта жвачка, розовеющая на столешнице снизу, здорово раздражала, особенно потому, что делала прилавок похожим на парту. Впрочем, когда Всеволод учился в школе, таких жвачек еще не было. Зато в студенческие годы были.
Соскоблить же ее – в голову почему-то не приходило.
Снова громыхнуло снаружи, после чего дверь открылась, и вернулся Ариман Владимирович. Как обычно возникла в потемневшем проеме фигура с ярким серебряным шарфом, который – Всеволод готов был поклясться – тянулся куда-то в пространство за спиной Аримана Владимировича на многие километры.
Потом, после того, как дверь была притворена, сквозняк исчез, шарф мгновенно улегся и стал обычным шарфом с серебристой ниткой, а черная фигура – обычным Ариманом Владимировичем в темно-сером пальто.
Жене еще несколько минут мерещилось, что шарф, занявший свое место на спинке стула, слегка шевелится и посверкивает. Так всегда бывало, когда Ариман Владимирович приходил.
–Нет никакого снегопада, – весело сказал обладатель шарфа. – И небо светлеет.
–А что сыплется в таком случае? – удивился Всеволод. Он тоже поглядывал на спинку только что занятого стула, словно ожидая от шарфа признаков жизни. Не дождался и успокоился.
–С крыши сыплется. Ветер-р, – Ариман Владимирович с наслаждением вытянул ноги. – Ветер сдувает снежную пыль, – возвышенно продолжал он, глядя в окно. – И бросает ее в потоки теплого воздуха, взмывающие… да, взмывающие вдоль стен.
–Какой там теплый воздух, – Женя поправила волосы. – Холодрыга зверская.
–А вот и неправда. Под нашей лавочкой теплотрасса, даже пол относительно теплый. Не говоря уже о батарее, хотя, согласен, не очень-то она греет…
Весь день хотелось спать, и что-то давило на грудь, мешая дыханию. Нервы, думала Женя, нервы, надо бы выпить что-то вроде валерьянки.
–Голодные мои коллеги, – Ариман Владимирович вытряхнул из пакета круассаны. – Разбирайте.
–А кому четвертый?
–Коту, – серьезно сказал Ариман Владимирович. – Шучу. Мне.
Серый безымянный кот в углу даже не шевельнулся. Кажется, ему одному было полностью хорошо, ничего никуда не давило, не было проблем с кошками.
Кот первые два дня после знакомства с Ариманом Владимировичем последнего терпеть не мог, шипел и прятался, потом необъяснимым образом полюбил. Почувствовал нечто мистическое в моем имени, говорил Ариман Владимирович. Родители-востоковеды дали ему древнеиндийское имя Ариман, которым он заметно гордился. Сколько лет было древнеиндийскому Ариману, он не сообщал; Женя давала ему пятьдесят, а Всеволод – от сорока до шестидесяти.
Он появился неделю назад. Материализовалось на входе огромное темное пальто, фантастический шарф, конец которого терялся за зданием банка на пересечении Красина и Подводников; кот панически ретировался под тумбочку, Всеволод принялся протирать запотевшие очки, Женя уронила со стойки ершики для трубок. Они его испугались, этого черного человека, вошедшего в стекляшку в третьем часу пополудни, в день первой оттепели февраля.
Ничего страшного в Аримане Владимировиче не было. Он шутил, вежливо флиртовал с Женей, рассказывал о курьезах судебной практики (до сокращения Ариман Владимирович был юристом).
Все они кем-то были до сокращения. В прошлой, докризисной жизни. Они еще иногда вспоминали о биологическом (Женя), юридическом (А.В.) и инженерном (Всеволод) прошлом. Кроме кота. Кот в прошлой жизни был муравьедом в Московском зоопарке, и нынешнееположение вещей ему нравилось больше.
Зашли двое – мужчина с девочкой, видимо, дочерью.
–Кофе? – Ариман Владимирович повернулся к приближающимся покупателям. Горестно всхлипнул офисный стул, держащийся на скотче.
–Нет, – посетитель осматривал прилавок. – Кофейный напиток… э-э… василек?
–Цикорий, – флегматично поправила дочь.
–Цикорий, – оскорбленно сказал Ариман Владимирович. – Скоро вы забудете, что такое кофе. Со здоровым образом жизни… Вам чистый, с черникой? С шиповником?
–Чистый, – Девочка принюхивалась к теплому кофейному запаху, закрепившемуся над прилавком Аримана Владимировича. – И давайте, действительно, кофе. Мокко, ага, давайте…
Женя, все время зачем-то неотрывно глядевшая в спину покупателя, порывисто обернулась и вышла наружу. За спиной у нее этот странный, интересный, веселый человек Ариман шутил, доставая пакеты с мокко и цикорием. Ему везло в торговле, ему вообще должно было всегда везти.
Женя достала телефон, собираясь позвонить матери, и тут ее схватили за локоть. Она охнула, когда почувствовала, что ее кидают к стене, но закричать не успела. Прямо перед ней с шумом обвалился пласт смерзшегося снега, а в следующую секунду руки, выдернувшие Женю с опасного места, отпустили ее.
Она стояла, вцепившись в телефон, хватая ртом ледяной воздух.
–Фу-у, напугали вы меня… Все-все-все, дышите носом, просудитесь.
Мужчина. Высокий, с тонким, каким-то измученным лицом, в бежевой старой куртке с кучей карманов и застежек, в вязаной шапке. В ярко-красных смешных перчатках.
–О, Господи, – сказала Женя. – Спасибо вам.
–Не за что, – спаситель стряхивал с рукава снежные крупинки. – Кстати, я не Господи, просто не люблю, когда на женщин что-то падает. Крышу не чистят, там же скоро айсберг образуется.
–Ага, – Женя посмотрела на крышу. – Почистим. Обязательно… Господи, чуть не убило этой… гадостью. Спасибо.
–Вам-то зачем чистить? – сделавший уже шаг ко входу мужчина остановился. – Пусть хозяева возятся, а нам, прохожим…
–Я, в некотором роде, хозяин, – вздохнула Женя. – Я тут работаю. Пойдемте.
Мимо них прошло семейство с цикорием.
Женя говорила, что снег, конечно, почистят и сосульки посбивают, и повторяла это невнятно по нескольку раз, пока не спохватилась. Пришла в раздражение от снега и собственной нелепости, да, пожалуй, от того, что сосульки надо было сбить давно.
–Посбивайте, – кивал мужчина. – А то несолидно. Называетесь "Респект", а на крыше Цейский ледник, вот-вот обвалится.
–Обвалится! – в сердцах сказала Женя. – Все здесь обвалится.
–Ну уж. Хотя у закона подлости нынче обострение.
А вот это он подметил просто гениально, подумала Женя. Не то что обострение – самый разгар.
Первым, что она увидела, было лицо Аримана Владимировича. На лице Аримана Владимировича медленно проявлялась улыбка. Росла и ширилась, явно обращенная к Жениному спутнику.
–Си-има, – растягивая «и», ласково сказал Ариман Владимирович. – Симочка… Какими судьбами…
Потертый Симочка обернулся, стягивая шапку. Волосы его были взъерошены.
–Сколько лет, – величественно сказал Ариман Владимирович, поднимаясь. – Я уж и не думал… Сима, как же хорошо, что ты зашел!
–Необычайно, – Сима приглаживал волосы. – Расчудесно, Ариман Владимирович, что я к вам зашел.
Какой-то он был хитрый.
Они крепко схватили друг друга за руки и тряхнули. Кот отчего-то завопил и утек на улицу.
–Как живете? – Сима принюхивался. Все принюхивались, оказавшись в кофейном отделе.
–Да я-то что! Работаю вот, на новой должности. А ты как оказался в наших краях? За табаком-кофе-кожей?
–За кожей, – сказал Сима. – И кофе прикуплю, раз уж вы продаете.
–А вот это хорошо, Сима, это правильно… Мой друг, – Ариман Владимирович указал наСиму жестом экскурсовода. – Мой старый друг Серафим Огнев.
Серафим Огнев оттаивал в отопленных недрах «Респекта». Нос его увлажнился от тепла.
Ариман Владимирович выскользнул из-за прилавка, и они с Симой обнялись.
–А вы заняты сейчас? Посидеть бы, вспомнить…
Вообще-то занят, сказал Ариман Владимирович между дружескими похлопываниями и почмокиваниями. Вообще-то он здесь торгует и покидать рабочее место до восьми часов не намерен. Но ради старого друга готов намерениями своими поступиться, сказал Ариман Владимирович, не отпуская Серафимовской руки.
Женя часто видела его веселым, но сегодня Ариман Владимирович прямо-таки светился. И – странно – он не выглядел в этот момент красивым. Что-то иное ощущалось сейчас в нем, что-то жутко тоскливое, словно между ним и Огневым произошла в свое время такая же тоскливая, долженствующая быть забытой история, вроде не поделенной женщины или еще чего.
А Всеволод, разглядывая Симу, определил в нем не то слегка опустившегося учителя, не то библиотекаря.
–Пойдемте, Сима, поговорим… Вспомним, Сима…
–И обо мне вспомянет2, – неожиданно зло сказал Сима, явно цитируя кого-то. Затем он сжал руку Аримана Владимировича, сильно, до болезненного хруста, дернул того к себе, и оба исчезли.
Серафим
-…вспомянет, – сказал я.
–Кто ты? Инспектор? Тебя что, разжаловали, ты, кажется, по части высоких чувств…
–Не паясничай, Денница.
Он посмотрел на меня убийственно.
–Почему Ариман? – спросил я, постепенно избавляясь от высокомерия. – Почему не Самаэль, в конце концов?
–Мне так хочется, – спокойно сказал он, и я понял – действительно, ничего другого за этим не стоит, ему так хочется. – Скажи, зачем ты все-таки пришел?
У него по лицу было видно, что знал он, зачем я пришел. Я ему сказал что-то такое, но оба мы не запомнили этого, потому что мой клиент решил уйти глубже в измерения. Мы провалились куда-то во Время.
–Объясни нормально, – Самаэль-Денница-Ариман совсем по-человечески потер переносицу. – Инспектируешь или хочешь что-то передать оттуда?
–Скорее второе. Тебе зачитать или своими словами?
–Ах, Сима… – он снова был Ариманом Владимировичем. – Недельку назад я бы тебе показал, как со мной на ты…
–Недельку назад, – признался я, – мне бы не пришло в голову говорить с тобой на «ты». И я бы долго думал, прежде чем вообще с тобой говорить. Так тебе зачитать?
–Все равно.
–Ну, если сразу и по сути… Ты будешь отправлен на разбирательство. По поводу нарушения условий содержания…
–Идиотская формулировка, – брезгливо сказал Ариман Владимирович. – Как будто я могу как-то влиять на условия содержания. Это вы меня содержите, а не я себя… тем более – вас. Прости, – он снова тер переносицу, похоже, у него там болело. – Говори-говори. Так о чем речь?
–О нарушении условий. С твоей. Стороны.
–Лучше зачитай.
Вокруг нас громоздились колеса, оси, цепи, о назначении которых я строил оскорбительные предположения: декорация и понты. По-моему, Самаэль (Ариман Владимирович?) был неравнодушен к стимпанку. Или я просто давно не бывал во Времени. Я помнил его другим.
–Торговец кофе Самаэль, вечноссыльный, приглашается на рассмотрение дела о нарушении бессрочного ограничения силы, незаконной деятельности в ссылке, причинении мелкого зла, нарушении условий содержания, – (какого, трам-тарарам, содержания, читалось в глазах вечноссыльного в этот момент), – Распространении…
Во Времени что-то со свистом оборвалось, и мы перебрались в бесформенные сугробы глубокой сферы, кажется, Вероятности.
Все-таки, он не изменился, мой клиент Самаэль. Хотя он странным образом стал казаться ниже, но лицо, глаза неопределимого цвета – не то зеленые, не то карие, не то вообще черные, – они остались прежними. Tempora mutantur, как говаривал Самаэль, а мы ни фига не mutamur in illis3. Так-то.
–Я понял, понял, – Самаэль поднял руки. – Формулировки у меня всегда были лучше. К слову так. На это все я тебе скажу, Серафим, что виновным себя не признаю и не являюсь. Вы меня сослали, вы и разгребайте свои проблемы, как это ваши хваленые Силы что-то недосмотрели.
Терпения мне! – взмолился я внутреннему шефу. Побольше терпения, пожалуйста! Я отработаю!
Самаэль флегматично пинал небольшой сугроб.
Вызвать бы сейчас всех моих ребят, парочку из первой сферы – для устрашения, и ораву дармоедов из третьей; они, наверное, давно забыли, как я выгляжу; так вот, притащить бы их сюда, чтобы взяли они этого упрямого Дьявола за шиворот и доставили прямиком в конвент, вот тут-то мы и посмотрим, как ты заговоришь, Денница, Ариман, Мефистофель… Но нет – сам пришел. Доверил своих олухов какому-то херувимчику (холеный такой, розовый, похожий на толстозадых крылатых мальчиков Ренессанса, которые, кстати, к херувимам никакого отношения не имели) и выбрался на землю, потому что – ну как же! – высокое начальство лично хочет арестовать… бла-бла-бла… И то верно, если сейчас Самаэль разозлится, моим кадрам он, пожалуй, будет не по зубам.
–Пошли, – сказал я. – Мне надоело разговаривать.
–Не пойду, Серафим. Мне хорошо тут. На земле. Я ничего не нарушал. Я торговал кофе и флиртовал с хорошенькими покупательницами, -глаза его стали карими и печальными. – Если хочешь меня в чем-то обвинить, изволь собрать свидетелей, посвятить их, так сказать… Соблюдай закон, Серафим, или возвращайся к себе на Седьмое небо. А вести меня силой ты не имеешь права.
Я был к этому готов. Тем более, прав был бывший князь тьмы. Так и запишем в будущем отчете: следовать за Серафимом отказался, потребовал дополнительного следствия, каковое было произведено…
Будет произведено. Требования клиента надо уважать.
–Добро, – кивнул я. – Будут тебе свидетели. Возвращаемся.
–Постой, – Самаэль вдруг протянул тонкопалую руку и схватил меня за рукав. – Ты думаешь, я буду ждать тебя и бояться?
Теперь я точно буду так думать, решил я.
–Из «Респекта» вышел мужчина с дочкой. Бесценный свидетель обвинения. Уверен, ему будет, что предъявить мне. Кстати, у него начинает болезнь Альцгеймера. Заодно вылечишь его, Серафим.
–Зачем? Ты даришь мне свидетеля – зачем?
–Хочу поиздеваться, – спокойно сказал Ариман-Самаэль. – Хочу дать вам фору и выиграть. И посмотреть на ваши лица.
Мразь. Та еще сволочь. Он знал, что я не оставлю этого несчастного склеротика – или чем он болен? Альцгеймером? Что я специально найду его, чтобы проверить, не сделал ли с ним чего обвиняемый. И окажется, что не сделал. И он засвидетельствует все в лучшем виде. Я могу сейчас забыть о нем и спокойно искать еще одного свидетеля, но мне бросили вызов, и я, как последний архангел, подобрал перчатку и размахиваю ею перед собой. Шеф внутри меня добродушно бросил «Мальчишка!» и затих. И я, глядя в непроницаемое лицо Денницы, медленно кивнул.
Тем временем
-И обо мне вспомянет…
–Это откуда? – наморщил лоб Ариман Владимирович. – Знакомое…
–Кажется, Пушкин, – Сима огляделся в поисках поддержки. – «Пройдет он мимо вас во мраке ночи, и обо мне вспомянет». Не помните? – он смотрел на Всеволода и Женю.
–Не помню, – Всеволод пожал плечами. – Но где-то слышал.
Оксана
Я родилась двенадцатого апреля тысяча девятьсот шестьдесят первого года. В день первого полета человека в космос. И в День Космонавтики я праздную свой день рождения, а Гагарина раньше в шутку называли маминым акушером. Я должна была родиться на неделю позже, но мама, услышав по радио о майоре Гагарине, не то переволновалась, не то слишком быстро бежала к тете Лизе на третий этаж, в общем, я родилась, когда первый космонавт только-только сошел со своей орбиты.
Отец в это время добирался на попутных машинах из очередного нефтяного городка, и, когда приехал, очень огорчался, что опоздал. Но имя мне придумал он. Десятого апреля позвонил маме и твердым голосом сказал, что если будет мальчик, назови Ильей. «А если девочка?» – спросила мама, которая хотела девочку. «Оксаной», – уверенно сказал папа. И я стала Оксаной.
Говорят, когда папа ворвался в комнату, на лице его читался главный вопрос: «кто?!» «Девочка», – и мама протянула пищащий сверток со мной. Тогда папа взял сверток на руки, стал качать и говорить «Ксана… Ксаночка…» Он знал, что мама назовет ребенка так, как он сказал. А еще он был без бороды тогда, а когда я начала его помнить – уже с бородой.
На фото отец совсем не похож на того, который был рядом. Он сам иногда смотрел и говорил: «какая милая пара» (на фотографии он был с мамой и со мной – двухмесячной). Но потом добавлял: «Только все будут думать, что ты ушла к другому». Действительно, ничего общего я до сих пор не нахожу в большом бородатом человеке в тяжелых очках и совсем молодом, тонком, в удивительных по тем временам очках без оправы, с одними дужками. Не знаю, что случилось с теми очками. Наверное, он их разбил, или зрение ухудшилось.
В три года я пыталась петь песни.
Мама перед сном пела мне «Спи, моя радость, усни» и еще что-то, а папа пел «А ты улетающий вдаль самолет…» и «На позицию девушка провожала бойца». Утром я вспоминала и пыталась воспроизвести. Музыку я, разумеется, не помнила, но помнила ощущение от песни – нежное или грустное, или гордое, или ритмичное такое. Никто не понимал, что я пою, но всем нравилось.
Мне крупно везло лет до шести, потому что я почти не ходила в детский сад. Я его ненавидела всеми фибрами, я впадала в истерику, когда меня приводили туда, к счастью – приводили редко. Обычно меня оставляли у тети Лизы.
Тетя Лиза сидела в декрете с маленьким Мариком, которого я не помню, будто и не было его. Меня не интересовал какой-то Марик. Квартира тети Лизы оказалась гораздо привлекательней. На стене висели две лисьих шкурки. Вспоминая их сейчас, я думаю, что это гадко смотрится – лисья шкурка, распластанная над диваном. К тому же, их явно ела моль. Но тогда я играла с ними, снимала с гвоздей, возила по полу, накидывала на себя сверху и притворялась лисой. Потом тетя Лиза вешала шкурки на место и уходила кормить своего Марика.
Это было прекрасное одиночество.
А еще я никогда больше не ела такого творога, которым кормила меня тетя Лиза. Ее муж работал в спеццехе молочного завода, обеспечивавшего продуктами горком. Творог, который он регулярноприносил, отличался от любого другого порядка на три. До сих пор скучаю по этому творогу.
Мама приходила обычно поздно, уставшая, но играла со мной до победного конца – пока я не засыпала. Засыпала я в давно уже не детское время, к великому возмущению отца, и маминым вздохам. Спрашивала недавно у мамы, помнит ли она. Помнит. У меня с детства был странный режим сна.
Однажды она взяла меня на спектакль, точнее, папа взял меня на спектакль, посмотреть, как мама играет. Что это значит, я понимала слабо. Мне представлялась мама с хоккейной клюшкой, или (о ужас!) с какой-то чужой девочкой, с которой она играет. Я плакала и боялась. Ничего страшного в театре я не увидела. Там ходили люди в глупой одежде и громко о чем-то говорили. Папа сидел со мной на руках, я послушно молчала – я вообще была тихим ребенком – и пыталась понять, зачем папа тычет рукой в сторону этих людей и шепчет мне на ухо: «Смотри, смотри, это мама, видишь?» Я не видела.
–Рано ей еще, – сказала мама поздно вечером, дома. – Зачем ты ее повел на «Обыкновенную историю»?
–Хотел показать, как мама работает, – оправдывался отец.
–Послушай, но тебе в пять лет было бы интересно смотреть «Обыкновенную историю»?
–Да, – сказал отец, пуская искорки из-под очков. – Я с детства интересовался советским театром.
Потом мне исполнилось шесть, и меня отдали в подготовительную группу детского сада.
Серафим
Я пью за военные астры, за все, чем корили меня4, думал я, чтобы заполнить тотальную пустоту в голове.

