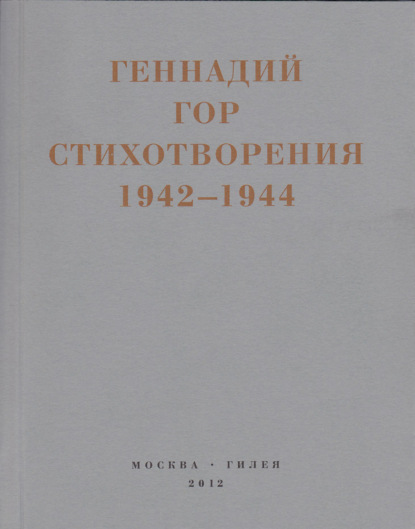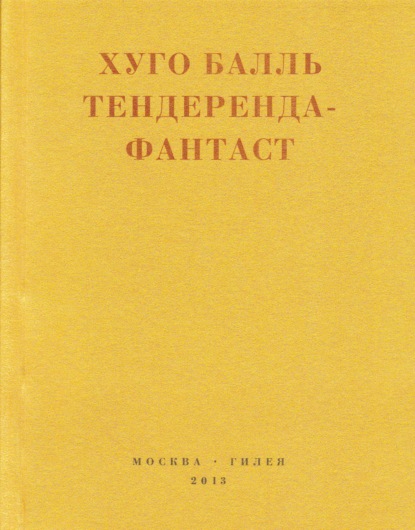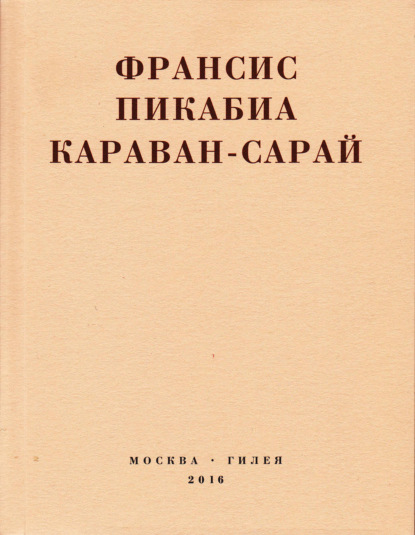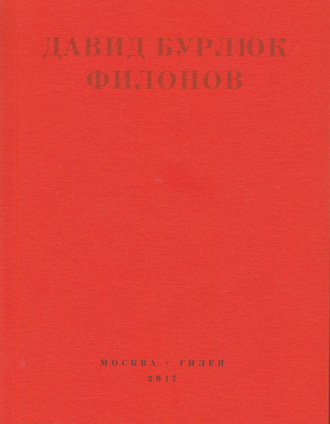
Полная версия
Филонов

Давид Бурлюк
Филонов
Повесть
© Давид Бурлюк, наследники, 2017
© Владимир Поляков, подготовка текста, примечания, комментарии, послесловие, 2017
© Книгоиздательство «Гилея», перевод, 2017
* * *17 февраля 1921 года Чичиджима, Япония.
Переписано (начато) 28 февраля 1953 года

Давид Бурлюк в Японии. 1920–1921 годы
Филонов
Глава I. Лестница
На Васильевском острове, среди многих прямых, как стрела, улиц, по которым быстро ехать на извозчике, но которые так тянутся, когда по ним шагаешь в башмаках со стоптанными каблуками, есть и узкие переулки; один из них недалеко от Академии художеств, по нему редко проезжает экипаж; зимой не дребезжит бубенчик чухонской лошадки.
Окна в домах с одной стороны только на час-другой бывают озарены солнцем в те дни, когда оно не затянуто туманом.
А так как в Петербурге не редкость они и зимней порою, то в этих переулках всегда царит полумрак, то синеватый, то полный жёлтой рыхлой мути.
Кто проходил по Академическому переулку, тот замечал этот высокий дом, имеющий две парадные двери, одна из них почему-то заперта, а другая хлопает, когда, уступая напору с улицы, она упорно возвращается на своё место.
Алис, вынув из кармана записку, с удивлением заметила, что номер 9 и есть этот дом, так бросившийся ей в глаза ранее. Девушка прошла мимо запертой двери, и когда другая захлопнулась гулко за ней, поднялась в третий этаж и позвонила.
Открыла дверь, должно быть, кухарка, женщина в чёрном платье в чёрную точку, формы её тела были так округлы и рыхлы, что не верилось, что в теле имеется скелет, вся она была сделана точно из ваты.
– Это не здесь… во дворе.
Подворотня не была длинной, дом узкий, во дворе сложены дрова… поздняя осень… и на них лежал недавно просыпавшийся снег; кирпичная стена за ними казалась особенно красной.
Алис хотелось увидеть этого странного человека, с которым она познакомилась неожиданным образом, он, этот человек, поразил её воображение своим красивым лицом, и то, что о нём она слышала, ещё более заинтересовало и толкнуло на этот шаг, первый в её жизни, в ином душевном настроении <она на него> никогда бы не решилась.
Адрес Алис узнала в Академии.
Теперь она подымалась по лестнице; лестнице, не схожей с той, на которой была перед этим. Ступени сбиты, перила из железных прутьев, на площадках временами открывалась дверь и видна была кухня с большой плитой, на плите шипело и жарилось, шёл чад и пахло котлетами.
С верхней площадки раздался высокий женский голос: «кешопа, кешопа»{1}!
Действительно, на лестнице стоял острый запах кошек. Они перебегали несколько раз дорогу Алис.
Лестница после третьего этажа стала совсем тёмной, и девушка не знала, куда ей идти, если бы перед ней не показалась фигура старушки немки, взявшейся её проводить.
– Вот здесь, барышня, прямо, не бойтесь упасть…
Было абсолютно темно. Алис верила словам руководительницы, из предосторожности вытянула руки, идущая впереди, постучав и открыв вторую дверь, сказала:
– Вот вам Филонов…
Глава II. Утёс, о который разбиваются волны
Алис стояла на пороге довольно просторной комнаты, комнаты, вытянутой по направлению к окну, виднелся стол, на нём чайник, чашка и что-то накрытое бумагой, тут же большая доска, к которой был приколот рисунок, начатый акварелью, в комнате был ещё один стол, диван со спинкой, обитой материей, и два стула. По стенам висели картины, они не были ни на подрамниках, ни в рамах – написанные на больших листах проклеенной бумаги.
Филонов стоял перед одной из них, приколотой около окна, в правой руке его кисти, в левой палитра, он обернулся по направлению Алис.
– Женщина?!
– Не женщина, а девушка.
– Я антифеминист…
– Я не фемина, а пуэлла{2}!
Филонов улыбнулся и сказал:
– Тогда войдите… Садитесь на диван и не мешайте мне заканчивать эту собачью ногу.
Алис сидела на диване, она не сняла своего осеннего пальто, в комнате было прохладно.
Предоставленная себе самой, стала изучать картину, которую писал Филонов, и художника.
И картина, и художник были замечательны, и в первой и во втором были особая грация, особая лёгкость; чувствовалось, что для обоих бытие является преодолимым пируэтом, это лёгкость в фигуре циркового акробата, она же сквозит и является условием удачи того, чему рукоплещет толпа.
Кисть легко ходила по бумаге, но картина была велика, в ней было много деталей и, конечно, Филонов немало времени затратил, чтобы её написать.
Картина по своему сюжету так же была воздушной и схожей с идейным пируэтом. Много цветов, плоды, ветви, на розовой дорожке брошено тело женщины, прекрасное тело, но оно, наверное, мертво; тело с пышными формами, тело с ногами и руками вытянутыми как плети; ноги белые, припухлые, с синевой, лиловатые вены отчётливо видны под кожей, чёрная собака нюхает тело женщины в лиловую пятку.
Картина была написана так, что каждый правоверный академик скрежетал бы от негодования при первом взгляде, в ней было много остроты, но крайности школы были так ясны, что поверхностный взгляд не заметил ничего бы другого.
Филонов был высокого роста, его голова напоминала античный бюст; лоб – прямой и белый.
На белом лице были заметны тёмно-синие глаза, а волосы русы.
– Вы каждый день работаете так усердно!
– Да… Три года почти не выходил из этой комнаты…
– Раньше вы учились в Академии.
– Да четыре я там был… Там удобно работать, но эти годы я не скучал за ней{3}.
– На какие средства вы живёте?
– На пятьдесят рублей в месяц, моя сестра за богатым помещиком и мне высылает аккуратно эти деньги{4}.
– Вы написали много картин?
– За эти три года я сделал около ста вещей, кроме набросков.
– И вы нигде их не выставляете?
– Я враг выставок, на которых десятки художников, сотни картин – это напоминает мне хор, в котором каждый поёт свою арию, не сообразуясь с пением соседа. Выставки не нужны для художника. Творчество, только оно наполняет жизнь содержанием…
– Тогда вы можете утверждать, что художник не нуждается в толпе.
– Толпа не нуждается в художниках, толпа способна художника только мучить, толпа – палач творцов, толпа может прожить и без художества…
– Да, – сказала Алис, волнуясь, – но ведь это эгоизм, вы мните искусство закованным в самом себе, вы забываете, что оно может принести пользу, оно может облагородить человека, да потом я думаю, что для художника, как <и> для цветка необходима земля, так необходима толпа[1]. Художник выражает подсознательные чувства коллектива, он рупор, через который кричит век. Художник должен закалять свою волю, своё «я» касанием с жизнью. Филонов, не кажется ли вам, что ваша комната – оранжерея, вы выращиваете тепличные цветы…
– Немножко для теплицы холодновато, – перебил Филонов.
Ему нравилась в этой девушке та внимательность, с которой она принимала участие в его жизни. Но её утилитарный взгляд на художества был ему достаточно известен.
Филонов не верил[2], что искусство делает людей лучшими, он помнил одного своего приятеля, критика и художника-дилетанта, который говорил: «Если бы художество облагораживало людей, то самыми благородными были бы те, которые чаще всего в общении с искусством, а между тем посмотрите, самые беспорядочные, развратные, грубые, нечестные, даже злые, – люди искусства». И этот критик, трудолюбивый, как муравей, изо дня в день составлял, пользуясь письмами художников и поэтов, критическими материалами, воспоминаниями, длинный перечень поступков, позорящих и чернящих доброе имя писателей{5}.
Почтенный критик вёл свою работу в двух тетрадях. Одна маленькая, другая объёмистая, большого формата.
В первой были фамилии и против каждой записано, где и у кого и на какой странице предосудительное, а в большой следовала по этому указателю порочащая выдержка:
Пушкин, о нём пишет такой-то, страница такая-то: «карточный долг не заплатил»… или же: страница такая-то: «велел выпороть плетьми»…
Филонов был далёк от такого точного понимания фразы, но в искусстве он не усматривал черт активного, реального воздействия, грубой физической силы, с чем любит считаться жизнь.
Филонову для его творчества надо было отрешиться, уйти от жизни, надо было свою комнату превратить в келью, Филонов относился к жизни свысока: он жил только своим искусством, замкнувшись в круг образов, которые владели им и требовали настойчиво через него своего выявления.
В продолжение трёх лет Филонов действительно не выходил почти из своей комнаты, он отстранился от жизни, он жил, расходуя на себя пятьдесят рублей в месяц, жизнь была полна самых суровых лишений; он не знал, что такое заработок, если бы кто-нибудь пришёл и сделал ему заказ, то он отказался бы, между тем каждая рублёвка была ему нужна.
Филонов отстранял всё, способное помешать сосредоточенной работе нахождения своего художественного облика.
Творчество подобно клубку намотанных ниток, надо только найти конец и терпеливо тянуть за него, клубок размотается весь и только тогда будет видно, какой длины и крепости эта нить…
Алис говорила о зовущей всякого творца жизни; Филонов противопоставлял девушке свой образ самодовлеющего творчества; творчества, которое пугается неожиданностей жизненной сумятицы: и оба они были правы.
Алис – потому что она представляла Филонова художником, который уже осознал себя, который покончил счёты с собой и идёт к берегу жизни; Филонов проходил последний этап исканий.
Филонов не согласился с высказанным Алис, но на этот раз в её обычных словах ему почудился действительный призыв далёкой жизни.
Он положил кисти и палитру, прошёлся по комнате и, став перед девушкой, смотрел на неё.
Она сидела на диване, на ней была бархатная шляпка, из-под которой выбивались каштановые волосы, очевидно, выгоревшие летом; пальто её было расстёгнуто, и из-под него белела кофточка с пеной кружев у ворота.
– Поймите, – говорил Филонов, – художнику надо бежать от жизни, если он хочет найти себя, если он хочет дать форму своим видениям; жизнь подобна болтливой кумушке, которая подсаживается под бок творящему, хихикает и не прочь толкать под руку.
– Но в жизни есть самопожертвование, ближний другой человек со своими радостями и горестями…
– Да, но если я что-либо сделал, то только потому, что я бежал от жизни, художнику особенно надо бояться и бежать…
– Женщин, женской любви?..
– Вы угадали, это смешно, но послушайте, как вчера мне один рассказывал; я пошёл за хлебом, в булочной встречаю Горелова, он развёлся со своей женой, она была балерина, учась в Академии, я иногда навещал их{6}.
Разговор происходил в булочной, но он характерен: я говорю ему: «Эта передряга потрясла вас».
– Нет, мы разошлись по-мирному. Художнику не годится быть женатым; пойдёшь на этюд, жена идёт тоже, только что писать начал, жена заскучала – «пойдём домой»; не окончив этюда, идёшь; другой раз, чтобы скучно не было, книгу берёт, но ведь вечно читать невозможно, надоест; ну а затем чулочки, башмачки, кофточки, платья, шляпки, всё хочется, чтобы как у других, а вы не знаете, сколько это стоит… Нет, художнику не годится быть женатым, лишние расходы, начинаешь работать не для искусства, а для продажи; вот я и развёлся, мы разошлись по-тихому, по-хорошему, я жене всё объяснил, она со мной согласилась.
– А не кажется ли вам, – оживлённо сказала девушка, – что ваш Горелов эгоист… сильному человеку не должно быть трудно носить свой талант. Талант – это достоинство, это одно из хороших качеств, по-вашему выходит, что обладать талантом значит усложнить, отяготить свою жизнь, а я думаю, что наоборот, это значит облегчить её, будучи более сильным, чем другие люди.
– Да, вы рассуждаете правильно, если бы в жизни духовное ценилось наравне с материальным, но в этом-то и горе, что кругом простые смертные ценят только материальное, только им и интересуются; блуждая по улицам, читая вывески, я всегда думаю, что это не улицы, это железные книги, железные страницы Книги, написанной коллективом простых маленьких людей, строящих дома, мосты, лифты, всё то, что они считают важным и нужным, маленькие люди, они, как песок морской, соединёнными усилиями они написали железные книги больших городов и противопоставили всему написанному: Шекспиром, Гюисмансом, Достоевским, Хлебниковым, Маяковским, Каменским. Написав свои книги, они как будто говорят: то, что написано вами, – отвлечённое, духовное, жизнь может обойтись без него, а вот наши железные книги – они продиктованы суровой действительностью{7}. В жизни, к сожалению, милая девушка, кусок железной цепи, который на ногах тащит каторжник, больше ценится, чем иногда талант…
Алис думала, опустив голову, губки её были слегка надуты, она тряхнула головой и решительно сказала:
– Вы, может быть, и правы, но при нормальной конструкции жизни духовное будет цениться дороже материального…
После паузы Алис предложила:
– Поедемте со мной обедать… в ресторан…
Филонов улыбнулся:
– Для меня это почти невозможно, у меня ведь и желудок непривычен к таким порциям, я ем аскетически, – и он указал на чайник и газету на столе.
Алис слыхала много рассказов об образе жизни, который вёл Филонов, но только теперь она ясно представила себе, какой силой характера должен был обладать человек, чтобы изо дня в день ограничивать себя и удовлетворять только насущное…{8}
Глава III. Специалист и дилетант
Доктор Кульбин жил в доме, выходившем на площадь, его кабинет помещался в угловой комнате, и Филонов, подходя в сумерках, не входя ещё в подъезд, знал, дома доктор или нет{9}. Если бы Кульбин был только врачом, то Филонов не ходил бы к нему, владея прекрасным здоровьем, он не нуждался в помощи врачей, но Кульбин был самым оригинальным врачом в своей среде; правда, на двери его была медная дощечка: «доктор Кульбин». Как и у всех врачей, в квартире его пахло аптекой, иногда рано утром в передней сидел какой-нибудь человек с печальной физиономией, очевидно, больной; иногда целая компания рассаживалась по красным креслам приёмной гостиной; всё же болезни и больные не составляли главного интереса доктора Кульбина; он слыл хорошим врачом, но к больным относился как к хлебу насущному, он не тяготился, не чуждался своего ремесла.
Филонов вспомнил, когда он был учеником Одесского художественного училища{10}, служитель Иванов принёс на урок анатомии красную протухшую ногу мертвеца в длинном деревянном ящике, вынул смрадное мясо и, положив на стол, похлопал ногу по ягодице, похлопал рукой, с чувством даже какой-то нежности.
– Не противно вам?
– Мы с этого хлеб кушаем, а когда хлеб кушаешь… не противно, – отвечал веско, с важностью, служитель анатомического театра, который знал скелет и анатомию органов так, что мог составить модель любого из них.
Доктор Кульбин не тяготился своей профессией, он относился как к ремеслу к медицине; она не была для него врачебным искусством.
В столовой доктор Кульбин ведёт интересный спор с каким-нибудь художником или поэтом, в пятый раз обращается к нему его жена:
– Вас больные ждут!..
– Ах, душечка, я им нужен… они подождут…
Филонов среди своих немногочисленных знакомых навещал Кульбина, через него он знал, что делается на поверхности жизни; в келью к Филонову не доносилось ничего.
В келье своей Филонов был предоставлен сам себе, придя же к доктору, он чувствовал, что к нему в мозг вторгались новые идеи; встретив <у> Кульбина оппозицию, вдруг загорался огнём протеста; жаром недоверия к общепризнанным и всеми принятым условностям творчества.
Одиночество, а Филонов был одинок, имеет достоинство углубить душу, но ничто не способно так успокоить индивидуальные резкости, даже обесцветить, от чувства противоречия, душу творца, весь характер его личности, как одиночество.
Одиночество – всё время быть сам<им> с собой, приучает человека думать, что он такой как все, что те представления, фантазии, которыми обуреваем дух одинокого, привычны, изучены, доступны, понятны, свойственны всем; одиночество этой стороной своей лишает человека самомнения и превращает его в наивного скромника.
Филонов, когда посещал Кульбина, подбадривал себя и уходил с головой более гордо поднятой, и энергия его к работе становилась отчётливой, несокрушимой.
Доктор Кульбин для Филонова был заразительным примером.
Он преподавал в каком-то высшем учебном заведении, был главным доктором в амбулатории, где все дела вёл бойкий фельдшер{11}, и Кульбин заезжал туда два раза в неделю; доктор останавливал извозчика под большой аркой казённого здания, отворял маленькую дверь в необычайно толстой кирпичной стене и входил в амбулаторию, низкую комнату со сводами; комната была перегорожена деревянной решёткой, из-за неё выскакивал краснощёкий, полный, с рыжими усами фельдшер, доктор говорил: «Здравствуйте», – и протягивал руку для пожатия:
– Как у вас?
– Имею доложить, всё благополучно; сегодня утром служитель Пётр приходил, засорение желудка, я ему “oleum ricini”{12} прописал.
Кульбин подписывал ведомость и уезжал; кроме этих двух мест и приёмов на дому у Кульбина были ещё лекции в народном университете; время доктора было занято и расписано; по вечерам он не пропускал концертов или же театральных представлений; посещал собрания художников, бывал в ночном клубе «Привал комедиантов»{13}.
Кульбину было уже сорок шесть лет; он был слаб здоровьем, худ, тщедушен, череп его был лишён волос, доктор покашливал, мёрз и в кабинете у письменного стола всегда держал в жестяном футляре керосиновую лампу-«молнию», служившую ему печью. Ходя по кабинету, оживлённо разговаривая с собеседником, доктор то и дело подходил к печке, и у него была манера садиться на эту печку, подложив под себя руки; таким образом он согревал и конечности, и мёрзнущую спину свою.
В квартире Кульбина был телефон, и он разговаривал с многочисленными знакомыми своими постоянно.
Жена доктора была красивой дамой, у её родителей на Васильевском острове были большие коммерческие дома, но родители не помогали мадам Кульбин{14}.
Она, по их мнению, сделала плохую партию, выйдя замуж не за фабриканта, а за доктора.
Но докторша мало беспокоилась этим, доктор Кульбин зарабатывал достаточно денег для безбедного житья; было одно обстоятельство, которое тревожило, и она зорко следила за тем, чтобы страсть доктора Кульбина не перешла границ, вредящих налаженному быту семьи.
Mrs. Кульбин воспитание своих детей доверила бонне, а сама, как все дамы столицы, не прочь была принять участие в любительских спектаклях{15}; Филонов много раз встречал её в отдалённых частях города, сопровождаемой молодыми людьми.
Но и доктор Кульбин был полон лихорадочной жаждой жизни. Он любил женское тело не только как врач, не только как художник, но и как человек, которому отрадно прикосновением к красивому, бодрому и молодому подогреть свою остывающую чувственность. Если к нему приходила пациентка, то он вводил её в кабинет, где у него стоял диван, обитый клеёнкой, и брался за лечение пациентки только в том случае, если пациентка соглашалась раздеться и произвести полный медицинский осмотр.
Доктор Кульбин был серьёзным врачом, но он любил также видеть рубаху, лиловые ноги под белым холстом и худосочные худощавые спины курсисток, иногда обращавшихся к нему.
У доктора Кульбина было много детей, старшие две девочки лет по двенадцати с задорно короткими носами своими матовыми лицами с голубыми глазами напоминали английские гравюры.
Филонов запомнил вечер; он сидел в столовой Кульбина, доктор занимался с запоздалыми больными, Mrs. Кульбин позвала Филонова: она ввела его в спальню детей, кроватки девочек стояли рядом. Mrs. Кульбин держала свечу, затеняя её пламя рукой:
– Смотрите, Филонов, как странно они спят…
Филонов увидел кроватки девственник<ов>-подростков; подушки были обшиты кружевами, пряди распущенных волос окаймляли обычно матовые личики, теперь пылавшие румянцем сна; в комнате было жарко, ноги и руки подростков были обнажены; но что было особенно занятно – это необыкновенный излом детских тех: головы девочек были так запрокинуты назад, что за беленькие тоненькие шеи их было страшно; конечности были разбросаны, как крылья при полёте в бурю.
Это был не сон, а взлёт среди облаков в голубое небо, покрытое белыми перистыми облаками, когда смотришь в лазурь и между движущимися на различной высоте рядами, слоями туч чувствуется воздушное пространство.
Доктор Кульбин любил более всего на свете живопись; всем остальным он занимался только потому, что его вынуждала суровая необходимость, насилие большинства над одним, слабости, темп казённого города-гиганта, в котором прошла его размеренная, расписанная по часам и по обязанностям жизнь.
Доктор Кульбин был специалистом медицины, которая ведает душевными болезнями человека.
Кульбин эту специальность считал свойством своей природы, он подчинялся ей не споря, как корова не спорит против своего вымени и доек. Доктор не спорил с жизнью за то, что она дала ему эту практическую дорогу; но у каждого бывает отдых; знал отдых от страстей, от тягот земных, от казёнщины, которая увенчала его мундиром и эполетами, знал доктор Кульбин отдых – этот отдых он находил в занятиях живописью.
Филонов не любил часто приходить к доктору Кульбину, он видел, как этот человек, не имея знаний живописи, не будучи никогда в состоянии надеяться, что искусство подарит его досуги великим образцом своего крайнего подъёма, всегда всем сердцем был предан этому искусству; доктор Кульбин верил в своё искусство, он не смотрел на него сквозь очки какой-либо школы, указки профессора.
Доктор Кульбин не был специалистом в области художества, он относился бескорыстно к нему, не только не требуя от него материальных выгод, но и не требуя от художества чрезмерной благосклонности, не пытаясь соперничать в нём с ранее бывшими знаниями и мастерством.
Доктор Кульбин был дилетантом. Для Филонова он являлся полезным примером. Филонов видел, что в художестве также может быть великая истина; тело немощно, но зато дух бодр; и каждый раз, возвращаясь от Кульбина, он думал: тело, видимость его художества немощно слаба, но дух бодр, и он черпал эту бодрость духа, запасался уверенностью в свои<х> сил<ах>.
Глава IV. Знакомые Филонова
Филонов жил в городе-спруте, выросшем из топких луговин при студёнистом, как на блюде разлитом, Финском заливе.
Город для частного человека, которого никто не знает, для артиста, для художника, чья карьера находится в периоде созидания, город – это те люди, которые в нём живут, которые помнят, знают, к кому можно пойти, обратиться за помощью.
Филонов вспоминал бесчисленные города, он думал о том, как три дня пробыл в Лондоне{16}, как блуждал по серым плитам тротуара среди высоких закопчённых громад; он был в Лондоне совершенно один; кругом миллионы людей; в рестораны, в театры, кебы, в вагоны собвея{17} вливались толпы народа, и Филонов видел: часто люди держались по двое вместе, или же целая компания была знакома между собою; они вместе гуляли, вместе закусывали, вместе смотрели пьесу в театре; Филонову приходил в голову образ тонущих людей, один спасательный круг и за его петли семьёю дёргалось несколько рук. Люди спасались от одиночества, спасались от будней жизни вместе.
Филонов блуждал по лабиринту улиц среди домов, так похожих один на другой. В сумерках около рельсовых путей он увидел дома, отвратительные, грязные, неряшливые.
В этих домах, подумал Филонов, должны жить отвратительные люди-калеки.
Филонов блуждал по городу. Во всём городе у него не было ни одного знакомого.
Особенно помнились ему блуждания ночью; когда в переулках царит полный мрак, переулки злобно беременны темнотой, когда, наклонясь с моста в чёрную воду, видишь полуночного лодочника, толкающего тяжёлую барку, он равнодушно не заметит бледное тело утопленницы, всплывшей под кормой.
Ночи были холодными; туман делал одёжу влажною, плиты улиц блестели, отражая чёрное небо и зелёные пятна фонарей.
Филонов был одинок. До него в этом мировом городе никому не было дела; останови на улице прохожего, скажи ему: «Я одинок!» Тот с ужасом выпучит глаза и побежит в сторону.
Во время скитаний Филонов забрёл в кривую узкую улицу. С одной стороны шли деревянные сараи, а с другой длиннела и пузатилась каменная стена, над ней крыша образовывала навес; за стеной слышался шум и рокот фабричных колёс.
В полумраке Филонов увидел людей, которые плотн<ым> рядом сидели вдоль стены, прижимаясь к ней спинами. Эти люди сидели дружной семьёй, они сидели, прижавшись бок о бок, как сидят близкие; они сидели так, как в театре сидят чужие, посторонние, но поглощённые до конца ярко выраженной идеей, умело экспонируемой перед ними{18}. Ночь была холодна, а за стеной, очевидно, проходили трубы машин, согревая стену.