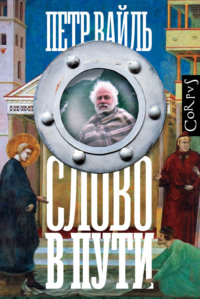Полная версия
Родная речь. Уроки изящной словесности
Когда Крылов умер, последовало высочайшее повеление воздвигнуть ему памятник. Как сказано в циркуляре Министерства просвещения, “сии памятники, сии олицетворения народной славы, разбросанные от берегов Ледовитого моря до восточной грани Европы, знамениями жизни и духовной силы населяют пространство нашего необозримого отечества”.
Крылову предстояло немедленно после кончины стать таким символом духовной силы, каким до него были признаны только три литератора: Ломоносов, Державин и Карамзин.
Компания характерная. Основатель первого университета, реформатор русского языка Ломоносов, величественный одописец Державин, главный российский историк Карамзин. И с ними – автор стишков, по определению Гегеля, “рабского жанра”. Басенник.
Памятник был поставлен в петербургском Летнем саду, и в жизнь России вошел не только автор запоминающихся строк, но и конкретный человек: толстый, сонный, невозмутимый, в окружении зверюшек. Дедушка. Мудрец. Будда.
Этой поистине баснословной славе не могли помешать никакие вяземские. Введение плебея – по рождению и по жанру – в сонм русских духовных небожителей было только частичной расплатой за науку. Признание, которым облекали Крылова все режимы и все властители, – лишь малая толика долга, в котором пребывает перед Крыловым Россия. Потому что его басни – основа морали, тот нравственный кодекс, на котором выросли поколения российских людей. Тот камертон добра и зла, который носит с собой каждый русский.
Такая универсальность Крылова ввергает его в гущу массовой культуры. Отсюда и ощущение второсортности – слишком уж все ясно. Хоть парадоксы и двигают мысль, в сознании закрепляются только банальные истины. Когда обнаружилось, что сумма углов треугольника не всегда равна 180 градусам, а параллельные прямые могут и пересечься – обрадоваться могли лишь извращенные интеллектуалы. Нормального человека эти новости должны раздражать, как бесцеремонное вторжение в налаженный умственный быт.
Заслуга Крылова не в том, что он произнес бесконечно банальные и оттого бесконечно верные истины. Они были известны и до него. В конце концов, нельзя забывать и то, что Крылов следовал известным образцам – от Эзопа до Лафонтена. Главным его достижением стали именно ловкие строчки, в которые были облечены прописные истины. Но самое важное совершил даже не сам поэт, а годы и обстоятельства российской истории, благодаря которым значение Ивана Андреевича Крылова в русской культуре грандиозно и не идет ни в какое сравнение с ролью Эзопа для греков или Лафонтена для французов.
Незатейливые крыловские басни во многом заменили в России нравственные установления и институты.
Примечательно, что и сам Крылов, и его современники – даже весьма проницательные – полагали, что он растет как раз от моралистики к высокой поэзии, и не ценили утилитарную пользу басен. “Многие в Крылове хотят видеть непременно баснописца, мы видим в нем нечто большее”, – писал Белинский. И далее: “Басня как нравоучительный род поэзии в наше время – действительно ложный род; если она для кого-нибудь годится, так разве для детей. Но басня как сатира есть истинный род поэзии”. Примерно так же отзывался о крыловских баснях Пушкин.
В этих суждениях явственен элемент оправдания: все же басня – дело служебное, низменное, детское. Другое дело, если она – сатира.
Великие умы оказались неправы. Крылов написал две сотни басен, из которых уцелели для отечественной культуры не больше двух десятков. Десять процентов – это очень высокий показатель. Но существенно то, что уцелели вовсе не те стихи, которыми гордился автор и восхищались современники. Только в специальных работах упоминаются когда-то сенсационные “Пестрые овцы” или “Рыбья пляска”, в которых Крылов разоблачал и бичевал. Они – за пределами массового сознания, как пересекающиеся параллельные прямые. Зато бессмертны строки “А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь”. Неслаженные квартеты существуют во все времена, без всяких политических аллегорий.
Басне достаточно того, что она по сути своей – и так аллегория. Первая метафора в человеческом сознании. Когда человек задумался, как ему вести себя в окружающем мире, он проиллюстрировал свое мнение примером. А обобщенный пример – и есть басня. Только на помощь пришла младенческая идея антропоморфизма: так появились говорящие лисы, львы, орлы.
То, что на струнных играют проказница Мартышка, Осел, Козел и косолапый Мишка, – уже забавно, уже достаточно. Лишь скуку может вызвать знание, кого обозначают эти звери: департаменты законов, военных дел, гражданских и духовных дел, государственной экономии. Посвященные современники могли тонко улыбаться: как отхлестал Крылов Мордвинова с Аракчеевым. Но уже через несколько недель никто не помнил о разногласиях в Государственном совете – тем более через годы. Осталась складно выраженная банальная истина: суть не подменишь суетой, умение – болтовней. Тем и жив “Квартет”, – а не сатирой.
Но Крылов не мог знать, кем останется в памяти потомков, и уж конечно не думал оставаться моралистом. Моралистом он уже был – с самого начала.
Насмотревшись на разные стороны жизни (с девяти лет в чиновничьей службе – в Твери, а потом в Петербурге), Крылов обличал порок с 15-летнего возраста, когда написал комическую оперу “Кофейница”. Затем пришел черед журнала “Почта духов”, который он писал и издавал в одиночку.
Это были зады Новикова и Фонвизина – российский просветительский классицизм: тщеславная Таратора, глупый граф Дубовой, вертихвостка Новомодова, бездарный Рифмоград, распутницы Бесстыда, Всемрада, Неотказа. По сути, такие произведения не предназначены для чтения: достаточно ознакомиться со списком действующих лиц. Имена исчерпывают классицистское негодование при виде пустоты петиметров и щеголих, засилья французов, ничтожества идеалов светского человека: “Я сыскал цуг лучших английских лошадей, прекрасную танцовщицу и невесту; а что еще более, так мне обещали прислать маленького прекрасного мопса; вот желания, которые уже давно занимали мое сердце!”
Мрачным обличителем бродит моралист по балам и приемам, резко выделяясь стилизованной простотой на фоне общества: “Из Америки или из Сибири изволили вы сюда прибыть? – спросил меня незнакомый. – Я очень любопытно желал бы услышать от вас о тамошних диких народах; по вашим вопросам мне кажется, что они еще не лишились своей невинности”.
Невинное сознание обличителя Крылова более всего возмущали браки по расчету, супружеские измены, проворный разврат, любовники знатных дам, набранные из сословия лакеев и волосочесов. Несоразмерность его ярости заставляет подозревать какую-то личную обиду. Во всяком случае, облик невозмутимого Будды, добродушного дедушки не вяжется с этим Савонаролой. Примечательно, что к басням Крылов пришел, когда ему уже было за сорок, – и, похоже, это возрастное: как громогласные декларации молодости сменяются старческим брюзжанием, так классицистские проповеди сменились нравоучительными аллегориями про лисичек и петушков.
Но и в баснях Крылов оставался в первую очередь моралистом – несмотря на старания тогдашних и позднейших любителей его творчества выявить остросатирическую тенденцию. Кому сейчас есть дело до политических убеждений баснописца? Он по какому-то недоразумению бесповоротно зачислен в некий прогрессивный лагерь. Это Крылов, автор басен “Конь и Всадник” (о необходимости обуздания свободы), “Сочинитель и Разбойник” (о том, что вольнодумец хуже убийцы), “Безбожники” (о покарании даже намека на неверие!).
Но в исторической перспективе все сложилось правильно: этих басен никто не знает, и не надо – потому что они скучны, замысловаты, длинны, темны. А лучшие написаны стройно и просто – настолько, что являют собой одну из загадок русской литературы: никто до Пушкина так не писал. Кроме Крылова. Пушкин открыл шлюзы потоку простоты и внятности, но Крылов как-то просочился раньше.
Чеканные нравоучительные концовки крыловских басен легко было заучивать гимназистам. Гимназисты росли, у них появлялись дети и ученики, которых они усаживали за те же басни. Чиновники и государственные деятели были выросшими гимназистами, воспитанными опять-таки на аллегорической крыловской мудрости. Российскую гимназию сменила советская школа, но басни остались, иллюстрируя тезис о нетленности искусства.
Когда Белинский писал, что басня “годится разве для детей”, он явно недооценивал такое функционирование жанра. Детское сознание охотно усваивало и несло по жизни нравственные нормы, гладко изложенные в рифму при помощи интересных зверюшек. На это накладывались обстоятельства российской истории.
Главный нравственный источник христианского мира – Писание – многосмыслен и альтернативен. Даже самая определенная из речей Иисуса – Нагорная проповедь – допускает множество толкований. Даже когда “ученики сказали Ему: для чего притчами говоришь им? Он сказал им в ответ: …Потому говорю им притчами, что они видя не видят, и слыша не слышат, и не разумеют” (Мф 13:11–15) – это снова иносказание. И так со всеми евангельскими притчами: истина, скрытая в них, всегда неоднозначна, сложна, диалектична.
Страна, не знавшая Реформации – парадоксально прошедшая лишь через контрреформацию (раскол), и народ, часто путавший, где Бог, а где царь, – ориентировались более на евангельскую букву, чем на евангельскую притчу. Упор на буквальное прочтение текста породил в России литературоцентристскую культуру, с которой связаны высочайшие взлеты и глубочайшие падения в истории нации.
Российская мысль, развиваясь, подошла-таки к понятию альтернативной нравственности. Но произошли исторические события – и вновь воцарилась догма, однозначная мораль. Басни Крылова – тоже догма, но куда более удобная, внятная, смешная. А главное – усвоенная в детстве, когда вообще все усваивается надежнее и долговечнее.
Но раз в силу отсутствия демократических институтов и гласности мораль в России тяготела к одноплановой определенности, то не отразил ли это Крылов, опираясь при этом на народную мудрость? Пишет же Гоголь: “Отсюда-то (из пословиц) ведет свое происхождение Крылов”. В любом учебнике русской литературы как общее место отмечается, что моралистические концовки басен вытекают непосредственно из народных пословиц. Но так ли это?
На самом деле фольклор отнюдь не сводится к ряду прописных истин. Действительно, любой басне Крылова можно подобрать аналог среди пословиц. Но с тем же успехом – и прямо противоположную концепцию. Там, где баснописец предлагает готовый рецепт, народное сознание ставит перед выбором.
В басне “Мартышка и очки” бичуется невежество. Пословица вторит: “Умный смиряется, дурак надувается”. Но рядом существует и другое изречение: “Много ума – много греха”. Или еще циничнее: “Не штука разум, штука деньги”.
Хвастаться и врать нехорошо – поучает Крылов в басне про синицу, которая грозила поджечь море. Правильно – соглашается народ: “Доброе дело само себя хвалит”. Но и: “Не бывает поля без ржи, а слова без лжи”.
“Ларчик” ратует за простоту без суемудрия. Пословица тоже умиляется: “Где просто, там ангелов со сто”, но тут же опровергает: “Простота хуже воровства”.
С детства всем известно, что трудолюбивый Муравей – герой положительный, а попрыгунья Стрекоза – отрицательный. Пословица призывает: “Хочешь есть калачи, так не сиди на печи”, но народ сомневается: “От работы не будешь богат, а будешь горбат”.
И так – с любой темой. Знаменитое русское хлебосольство отражено в пословицах, наряду с известной “Гость в дом – Бог в дом” куда менее популярная “Хорош гость, коли редко ходит”. Диалектический подход блестяще представлен в пословицах о пьянстве: от “Много вина пить, беде быть” – к “Пьяница проспится, к делу годится” – и до “Пьян да умен, два угодья в нем”.
Все это не похоже на лапидарность крыловских формул, которые выскакивают из русского человека быстрее, чем он успевает их осмыслить. “За то, что хвалит он Кукушку”, “Ай, Моська, знать, она сильна”, “У сильного всегда бессильный виноват”, “Речей не тратить по-пустому, где нужно власть употребить”.
Произошло удивительное. Это не Крылов зафиксировал нравственную мудрость народа в форме басен. Это народ утвердил в своем сознании крыловские басни в качестве нравственной мудрости.
Слишком многое в российской истории сопротивлялось тому, чтобы моральным кодексом управляла принципиальная диалектичность этических норм, идущая от мифов, Сократа, евангельской притчи, рационализма, индивидуализма.
А Крылов – всегда рядом. Удобный, простой, запоминающийся, однозначный. Снабдивший набором нетленных истин про мартышек и кукушек. Избавивший от хлопот альтернативного мышления, химеры терпимости, разброса плюрализма, утомительной многослойности демократического сознания.
Есть соображение о том, что полнота жизни терпит ущерб от незнания и неумения осознать многообразие путей добра и зла. Но и на это есть басня – про Лягушку, которая хотела раздуться до размеров Вола, да лопнула.
Общественное, идеологическое, надлитературное значение Крылова подчеркивается даже его долголетием. Он как-то сумел охватить весь период становления русской словесности. Почти ровесник Карамзина, он был на 30 лет старше Пушкина, на 45 – Лермонтова и пережил их всех. Он вошел в историю культуры патриархом – беспечным, ленивым, спокойным, знающим что-то такое, что доверил только безмолвному клодтовскому зверью у подножия памятника.
А Россия уже столько лет бьется над загадкой Крылова, которого лучшие умы либо недолюбливали (Вяземский), либо хвалили за несущественное (Белинский, Гоголь) и несуществующее (Пушкин) и обсуждали: низкий жанр басня или нет, подлинная поэзия у Крылова или второразрядная. Но Крылов создал не литературный жанр, а этическую систему. И даже предусмотрел в своем универсальном басенном комплексе недооценку и неблагодарность – написав “Свинью под Дубом”.
Чужое горе
Грибоедов

Один из главных вопросов российского общественного сознания можно сформулировать так: глуп или умен Чацкий?
“Мы в России слишком много болтаем, господа”, – цедили поколения мыслящих русских людей. В этой сентенции предполагался ответ на множество проклятых вопросов, настолько было ясно, что слово и дело понятия не просто разные, но и антагонистические.
Если Чацкий глуп – все в порядке. Так и должно быть: человеку, исполненному подлинной глубины и силы, не пристало то и дело психопатически разражаться длинными речами, беспрестанно каламбурить и потешаться над не достойными внимания объектами.
Человек, противопоставивший себя обществу – а сюжет “Горя от ума” на этом и построен, – обязан осознавать свою нелегкую, но честную миссию. Пустозвонство же Чацкого – раздражает. Он ошарашивает с первых реплик своего появления, до всех ему есть дело: “Тот черномазенький, на ножках журавлиных… А трое из бульварных лиц, которые с полвека молодятся?.. А тетушка? все девушкой, Минервой?.. А Гильоме, француз, подбитый ветерком?..” И так далее – Чацкий тараторит не останавливаясь, так что Софья вынуждена резонно вставить: “Вот вас бы с тетушкою свесть, чтоб всех знакомых перечесть”.
И точно: Чацкий, знаменитый остряк, пробавляется досужими толками, перемыванием косточек, сплетнями. Если он декабрист, борец, революционер, диссидент – зачем ему все это? Чацкий ничуть не похож на современных ему лучших людей России: в нем нет вдохновенной пылкости Рылеева, угрюмой сосредоточенности Пестеля, лихорадочной готовности на все Каховского.
Как к пустослову и отнеслись к герою Грибоедова критические умы.
Пушкин: “Чацкий совсем не умный человек… Первый признак умного человека – с первого взгляда знать, с кем имеешь дело, и не метать бисера перед Репетиловым и тому под.”.
Белинский: “Чацкий… хочет исправить общество от его глупостей: и чем же? своими собственными глупостями, рассуждая с глупцами и невеждами о “высоком и прекрасном”… Это просто крикун, фразер, идеальный шут, на каждом шагу профанирующий все святое, о котором говорит”.
В самых последних словах, пожалуй, и есть разгадка такого неприятия Чацкого: он профанирует святое.
Сознание сверхзадачи (“хочет исправить общество”) обязано сообщать человеку черты сверхсущества. По сути, он лишен права иметь недостатки, естественные надобности, причуды. И уж во всяком случае, наделенный святыми намерениями человек не может понапрасну расплескивать свой праведный гнев.
В основе такого представления о борце, выступающем против общества, – вера в серьезность. Все, что весело, – признается легкомысленным и поверхностным. Все, что серьезно, – обязано быть мрачным и скучным. Так ведется в России от Ломоносова до наших дней. Европа уже столетиями хохотала над своими Дон Кихотами, Пантагрюэлями, Симплициссимусами, Гулливерами, а в России литераторов ценили не столько за юмор и веселье, сколько вопреки им. Даже Пушкина. Даже Гоголя!
Зов к высоким идеалам и бичевание пороков – вот занятие достойного российского человека. Тут все серьезно, и программные документы декабристов нельзя отличить от царских указов, а декларации диссидентов по языку и стилю – близнецы постановлений ЦК.
А вот конфликт Чацкого с обществом Фамусова – прежде всего стилистический, языковой. Чацкий изъясняется изящно, остроумно, легко, а они – банально, основательно, тяжеловесно. Примечательно, что самые знаменитые реплики противников Чацкого запомнились не своей реакционностью, а редкостью юмористической окраски: например, идея Скалозуба заменить Вольтера фельдфебелем – очень остроумна. Но это одно из немногих исключений. Все веселое (читай: легкомысленное, поверхностное) в пьесе принадлежит Чацкому. Этим он и раздражает общество. Любое общество – в том числе и Пушкина с Белинским.
Великий русский поэт вряд ли прав в оценке грибоедовского героя: метание бисера не есть признак человека неумного и пустого. Это просто иной стиль, другая манера, противоположное мировоззрение. И характерно, что самым ярким представителем такого несерьезного стиля в России был – сам Пушкин. Нечеловеческая (буквально) легкость возносила Пушкина над эпохой и людьми. Нечто родственное такому необязательному полету – и у Чацкого.
Критик режима и неявный революционер, Чацкий обязан был, вероятно, выглядеть и вести себя иначе. В духе времени это могло быть что-то байроническое – бледное и в плаще. Но те грандиозные годы дали русской литературе две спровоцированные Байроном фигуры большого масштаба – Онегина и Печорина. Чацкий же – персонаж другого театра: шекспировского.
Чацкий является, выкрикивая и насмехаясь, и сразу напоминает одного из самых ярких героев Шекспира – Меркуцио. Очаровательный балаболка, фигляр, не щадящий никого ради красного словца, тот так же неизбежно идет к трагическому финалу. В первых сценах “Ромео и Джульетты” мы еще не знаем, что Меркуцио произнесет потрясающий монолог о королеве Маб и умрет от шпаги Тибальта. И первоначальная безмятежная болтовня Чацкого никак не предвещает яростных проповедей и позорного изгнания в звании сумасшедшего.
Но Меркуцио умирает за три действия до конца пьесы и потому не может пройти естественный путь развития, становясь тем, кем мог бы стать, – Гамлетом.
А Чацкий проходит всю дорогу надежд, разочарований, горечи, краха, на глазах читателя набираясь желчи и мудрости.
Датского принца и российского дворянина объединяет не только клеймо официального безумия. Схожи их наблюдения над жизнью и сделанные выводы, и даже монологи и реплики находятся в стилевом соответствии. “Распалась связь времен” – по-русски это вышло чуть многословнее:
И точно, начал свет глупеть,Сказать вы можете, вздохнувши;Как посравнить да посмотретьВек нынешний и век минувший…Полтора ученых века вставляли Чацкого в привычную шкалу ценностей, не важно – с каким знаком. Подвижник святого дела – значит, борец. Если болтун – значит, предатель святого дела. Опять-таки не важно, какое именно дело имеется в виду: что-то важное, благородное, нужное.
Полтора школьных века заучивали общественно полезные монологи: о помещике, обменявшем крепостных на собак; о Максиме Петровиче, упавшем наземь перед императрицей; о французике из Бордо и французско-нижегородском говоре. За всей этой социальной яростью потерялся истинный, свой, голос героя.
Ну вот и день прошел и с нимВсе призраки, весь чад и дымНадежд, которые мне душу наполняли.Чего я ждал? что думал здесь найти?Где прелесть этих встреч? участье в ком живое?Крик! радость! обнялись! Пустое.В повозке так-то на пути,Необозримою равниной, сидя праздно,Все что-то видно впередиСветло, синё, разнообразно.И едешь час, и два, день целый; вот резвóДомчались к отдыху; ночлег: куда ни взглянешь,Все та же гладь, и степь, и пусто, и мертво…Досадно, мочи нет, чем больше думать станешь.Кто произнес эти страшные, безнадежные слова, эти сбивчивые строки – одни из самых трогательных и лиричных в русской поэзии? Все он же – Александр Андреич Чацкий, российский Гамлет.
Здесь гладкопись “Горя от ума” начисто исчезает, и ловкий четырехстопный ямб переходит в пяти-, а затем и в тяжеловесный шестистопный. Это нестройное мышление истинно трагического героя.
Это шекспировский тупик умного, несчастного, глубоко и тонко чувствующего человека. Просто время иное, да и жанр другой. Потому рядом не обреченная Офелия, а ветреная Софья (“не то блядь, не то московская кузина”, по Пушкину). И противник – не Лаэрт с отравленной шпагой, а Молчалин с бумагами. И после главных слов появляется не кающаяся мать, а балагур Репетилов.
Карнавально, по-меркуциевски начав, Чацкий избежал его смертельного исхода – хотя мог и не избежать: дуэли были в ходу, и был же ранен на дуэли с Якубовичем сам Грибоедов. Однако “Горе от ума” – комедия, стрельба тут неуместна. Но конец Чацкого так же трагичен, как конец Гамлета, до которого не успел вырасти Меркуцио. Чацкий, конечно, остается жив и куда-то благополучно уезжает в карете. Но это и есть гибель – исчезновение со сцены. В конце концов, куда унесли Гамлета четыре капитана? За кулисы.
Но в соответствии с гражданским подходом к литературе закулисное бытие грибоедовского героя тоже волновало общественность – и не меньше, чем бытие сценическое. Те, кто оценивал пьесу как прогрессивную, полагали, что Чацкий пойдет прямиком в революцию. Однако почвенник Достоевский по-иному анализировал реплику “Бегу, не оглянусь, пойду искать по свету…”. Он писал: “Ведь у него только и свету, что в его окошке, у московских хорошего круга – не к народу же он пойдет. А так как московские его отвергли, то, значит, “свет” означает здесь Европу. За границу хочет бежать”.
Концовка соображения звучит прямым доносом, и это современно. Так современен и своевременен главный вопрос: глуп или умен Чацкий? Если, будучи носителем прогрессивных оппозиционных идей, – глуп, то тогда понятно, почему он суетится, болтает, мечет бисер и профанирует. Если же признать Чацкого умным, то надо признавать и то, что он умен по-иному. Осмелимся сказать: умен не по-русски. По-чужому. По-чуждому. Для него не разделены так бесповоротно слово и дело, идея обязательной серьезности не давит на его живой, темпераментный интеллект.
Он иной по стилю. Разве общество отвергает Чацкого за идеи? Прочтем отрывок:
А все Кузнецкий мост и вечные французы,Оттуда моды к нам, и авторы, и музы:Губители карманов и сердец!Когда избавит нас творецОт шляпок их! чепцов! и шпилек! и булавок!И книжных и бисквитных лавок!По шутовскому образцу:Хвост сзади, спереди какой-то чудный выем,Рассудку вопреки, наперекор стихиям,Движенья связаны, и не краса лицу;Смешные, бритые, седые подбородки!Как платья, волосы, так и умы коротки!..Пламенное проклятие иноземному засилью. Кто же это так возмущен? Да все: первые шесть строк в этом составном монологе принадлежат Фамусову, последние шесть – Чацкому.
Так кочуют по пьесе и по жизни основополагающие российские идеи. А кто высказывает их – не различить под гладким покровом русского ямба.
Чацкий враг Фамусову в ином. Обществу не нравится его стиль: ерничанье, шпильки, неуместный смех. Человек положительный и рассудительный так себя не ведет. Это – осознанно или нет – ощущается и персонажами пьесы, и ее читателями. Ведь и сумасшедшим Чацкого объявляют всего лишь за насмешки и несерьезность. Поводом становится реплика Софьи после очередной пикировки с Чацким: “Он не в своем уме”. Хотя в той конкретной перебранке Чацкий ничего из ряда вон выходящего не сказал:
Молчалин! – кто другой так мирно все уладит!Там моську вовремя погладит,Тут впору карточку вотрет…Вялые нападки, но примечательные. Молчалин и все другие соблюдают правила игры (“вовремя погладит”). А Чацкий – нет. Он играет по своим правилам.