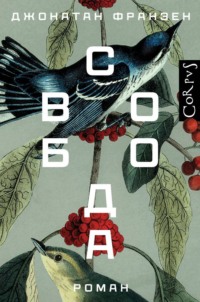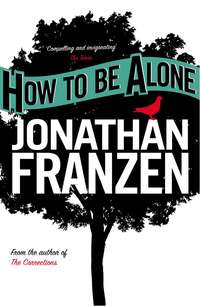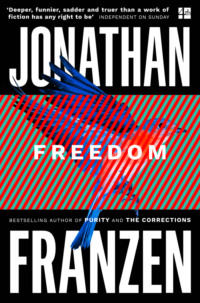Полная версия
Перекрестки
– Почему ты не разделся?
– Не знаю. Мне показалось, так интереснее.
Снова неясный кивок.
– Шэрон! – взмолился он.
Клем понимал, что разговора не избежать и он будет нелегкий, но решительно предпочел бы отложить его на потом. Чтобы выразить это свое предпочтение, он закрыл глаза и качнул бедрами. Удовольствие не ослабло, но тут Шэрон вновь заговорила:
– Я хочу, чтобы ты тоже сказал, что влюблен в меня.
Он открыл глаза. А ведь еще в сентябре, когда игла его разума застряла на дорожке с мелодией Шэрон, его подмывало сказать, что он влюбился в нее. Но он удержался, поскольку во всем следовал ее примеру и понимал, что романтические признания – не комильфо. Правда, после кризиса, приключившегося с ним в День благодарения, он обрадовался, что промолчал. Теперь же собственными нервами прочувствовал, как изменятся ощущения Шэрон, если она услышит от него эти волшебные слова. Они настолько все меняют, что он мог бы произнести их вполне искренне.
– И неважно, если на самом деле ты так не чувствуешь, – настаивала Шэрон. – Мне просто любопытно, каково это, услышать их.
Он кивнул и произнес:
– Я не влюблен в тебя.
Он не сразу осознал, что сорвалось с его губ. Он собирался сказать совершенно другое. Он ужаснулся.
– Нет, ты скажи, что влюблен, – попросила Шэрон.
– Я пытался. Не получилось.
– Мягко говоря!
Он вытянул руки, опустил глаза, посмотрел на поросшие волосом их с Шэрон точки соприкосновения и покачал головой вопреки таившейся в душе горькой правде.
– Я… я сам не знаю, что чувствую. Я не могу этого сказать.
Шэрон поморщилась, точно правда ее обожгла.
– Прости, – произнес он.
– Ничего страшного. – Она криво улыбнулась. – Я хотя бы попыталась.
– Господи, Шэрон, прости меня.
– Ничего страшного. Заканчивай, что начал.
Она была великодушна до последнего, но даже в своем распаленном состоянии он понимал, что наслаждаться ею и дальше неправильно. Он вышел из нее.
– Давай, чего ты! – Она попыталась вправить его обратно. – Забудь, что я сказала.
– Не могу.
Она плакала.
– Ну пожалуйста, давай. Я так хочу.
Но он не мог. Вспомнил, как перед его отъездом в университет мать провела с ним беседу (или подобие беседы) о сексе. Что бы ни говорили в кампусе, сказала она, секс без обязательств – пустое и гибельное занятие. Это древняя мудрость. И он, как и в случае с университетскими правилами, слишком поздно осознал, что старики не так уж глупы. Доказательство – лежащая под ним девушка в слезах.
Он встал с кровати, и эрекция показалась ему непристойной. Шэрон лежала и плакала, он натянул джинсы, надел бушлат. Из комнаты хиппи этажом ниже донеслась знакомая басовая партия с того самого альбома Who, который они слушали неделями. Он тряхнул пачку сигарет, вставил одну в рот, чиркнул спичкой. В сентябре он попробовал “Парламент” Шэрон, и ему понравилось. А когда осознал, что сигареты, как и секс, еще не делают его взрослым мужчиной, уже насмерть пристрастился к курению.
– Давай я сделаю тебе гренки, – предложил он.
Шэрон ничего не ответила. Укрылась одеялом, отвернулась к стене, и лишь легкая дрожь кудрей выдавала ее слезы. Кроватью ей служил двойной матрас на пружинной сетке, письменным столом – полая дверь на козлах, книжными полками – сосновые доски на подпорках из шлакобетона. Он вспомнил, как впервые увидел ее библиотеку, огромное количество французских книг в мягких обложках, вспомнил строгую белизну и единообразие их корешков. Тогда, три месяца назад, ему казалось, что самое сексуальное в женщине – высокий интеллект. И даже теперь, если бы они с Шэрон состояли только из разума и гениталий, и больше ни из чего, он поверил бы, что у них есть будущее.
Не уйти ли прямо сейчас, подумал он: что это будет, милосердие или трусость? Прежде он планировал сообщить ей, что они расстаются, письмом, чтобы обратиться к ней как разум к разуму, рационально, вдали от манящей западни. Но вот он обидел ее, и она плачет. Может, ситуация говорит сама за себя? И любые объяснения лишь обидят ее еще больше? Он присел на край кровати, втянул дым изнуренными легкими и задумался, как быть дальше. Вот опять экзистенциальная свобода: поговорить или не поговорить. Этажом ниже по-прежнему грохотала Who.
– Я не вернусь на следующий семестр, – услышал он собственные слова. – Я решил бросить университет.
Шэрон тут же повернулась и уставилась на него, щеки у нее были мокрые.
– Я отказался от отсрочки, – продолжал он. – Поеду куда пошлют, может, и во Вьетнам.
– Это же глупо!
– Правда? Это ведь ты говорила, что так и надо.
– Нет-нет-нет. – Она села, прижала к груди одеяло. – Хватит с меня и того, что Майк там. Ты не имеешь права так со мной поступать.
– А я и не с тобой так поступаю. Я так поступаю, потому что это правильно. Мой номер девятнадцатый. Сама говорила, я давно должен быть там.
– Клем, боже, нет! Это глупо!
В детстве, когда его гениальный брат был достаточно большим, чтобы играть с ним в шахматы, но слишком маленьким, чтобы выиграть, Клем всегда, прежде чем поставить мат, спрашивал Перри, уверен ли он в своем последнем ходе. Он считал этот вопрос милосердием старшего, но однажды Перри в ответ залился слезами (ребенком Перри вечно рыдал, не из-за одного, так из-за другого) и сказал Клему: хватит напоминать мне об ошибке. Непонятно, с чего он взял, что Шэрон ответит как-то иначе.
– Меня не убьют, – сказал он, – мы уже не ведем во Вьетнаме наземных боев.
– Когда ты это задумал? Почему не сказал мне?
– Вот, говорю.
– Это потому что я сказала, что влюблена в тебя?
– Нет.
– Зря я тебе сказала. Я ведь даже не знаю, правда ли это. Просто есть такие слова, они существуют, и начинаешь думать: а что если я тоже их скажу? Слова обладают собственной силой – стоит их произнести, как они рождают чувство. Прости, что заставляла тебя их произнести. Мне нравится, что ты честен со мной. Мне нравится… ох, черт. – Она бросилась на кровать и снова расплакалась. – Я правда влюблена в тебя.
Он в последний раз затянулся сигаретой и аккуратно затушил ее в пепельнице.
– Твои слова тут ни при чем. Я уже отправил письмо.
Она недоуменно уставилась на него.
– Я бросил его в ящик по пути сюда.
– Нет! Нет!
Она заколотила по нему кулачками – небольно. Исходящий от нее запах секса и агрессия сказанных им слов вновь распалили желание. Он вспомнил, как слонялся по этой комнате, насадив на себя Шэрон: благодаря ее миниатюрности можно было практиковать подобные удовольствия. Испугавшись попасть в западню, из которой только-только выбрался, он схватил Шэрон за запястья и заставил посмотреть на него.
– Ты замечательный человек, – сказал он. – Ты изменила всю мою жизнь.
– Ты со мной прощаешься! – прорыдала она. – А я не хочу прощаться!
– Я тебе напишу. И все расскажу.
– Нет, нет, нет.
– Неужели ты не понимаешь, что это другое? Я уважаю тебя как личность, но я не влюблен в тебя.
– Лучше бы мы с тобой никогда не встречались!
Она упала в изножье кровати. Охватившая его жалость была бесконечно реальнее порыва уйти в солдаты. Он жалел Шэрон за то, что она такая маленькая и так его любит, и за то, что по его милости она очутилась в логическом тупике, и за то, что по иронии судьбы благодаря ей Клем стал человеком, который ее бросит, ведь именно она познакомила его с новыми экзистенциальными формами познания. Ему хотелось остаться и все объяснить, поговорить о Камю, напомнить ей о необходимости морального выбора, растолковать, сколь многим он ей обязан. Но он не доверял своей животной сути.
Он наклонился к Шэрон, зарылся лицом в ее волосы.
– Я правда тебя люблю, – сказал он.
– Любил бы, не уходил бы, – зло и звонко ответила Шэрон.
Он прикрыл глаза и моментально задремал. Клем разлепил веки.
– Ладно, пойду к себе, собираться.
– Ты разбиваешь мне сердце. Надеюсь, ты это понимаешь.
Единственный выход из западни – проявить силу воли, встать и уйти. Он открыл дверь, услышал, как Шэрон крикнула: “Подожди!” – и этот крик почти разбил ему сердце. Он закрыл за собой дверь, и грудь сдавил спазм, в котором он с удивлением опознал рыдания. Они вырвались совершенно независимо от него, неудержимые, точно рвота, но менее привычные – он не плакал с того самого дня, когда убили Мартина Лютера Кинга. В соленой пелене он сбежал по лестнице, покрытой отсыревшим ковром, мимо гулкого буханья Who, в котором сейчас отчетливо слышались высокие частоты, сквозь едкий запах утренней травы в общих комнатах, и очутился в холодном сером переулке Эрбаны.
Через пять часов на автобусной станции (уже повалил снег) он сдал сумку и гигантский чемодан, который волок по кампусу, представляя, что это тренировка перед лагерем новобранцев, и занял одно из последних мест в автобусе до Чикаго. Место было возле прохода, в глубине половины для курящих, на сиденье сразу за Клемом надрывался ребенок. Клем так сильно скучал по Шэрон, так неотвязно мучила его последняя утраченная надежда на новую встречу, так упорно подступали слезы, точно он и впрямь был в нее влюблен. И хотя в автобусе и так уже было накурено нестерпимо, он все же достал из кармана сигареты, щелкнул крышкой пепельницы в подлокотнике и попытался обуздать чувства с помощью никотина. Он разделался с чудовищной задачей разбить сердце Шэрон, но ему еще сегодня многое предстояло.
Камю достоин всяческого восхищения, и когда Шэрон с Клемом обсуждали его мышление, оно казалось логичным. Но наедине с собой Клем понимал, в чем заблуждался Камю. Потому ли, что он француз, Камю был тайным картезианцем – утверждал, что существует единое сознание, которое рационально объясняет моральный выбор, при том что подлинные мотивы человеческих поступков, по сути, сложны и не поддаются контролю. Клем позаимствовал у Шэрон веский моральный довод в пользу отказа от студенческой отсрочки. Но не будь у него иной причины, кроме этого морального довода, он не написал бы призывной комиссии. Были ведь и другие веские альтернативы. К примеру, он мог бы привлечь внимание общества к аморальности подобных отсрочек, мог бы порвать с Шэрон потому лишь, что эти отношения мешают ему учиться. Тот же выбор, который он сделал, метил прямиком в отца.
Шестнадцать с лишним лет – почти всю жизнь – Клема в отце восхищала именно сила. В самом начале, в Индиане, где дом священника разваливался быстрее, чем отец успевал ремонтировать, Клем с благоговением и даже страхом наблюдал, как бугрятся огромные папины мышцы и вздуваются жилы, когда тот взмахивает киркой или забивает гвоздь, как с него потоками льется пот, когда он жарким августовским днем косит бурьян. Пот имел своеобразный, неопределимый запах – не противный, скорее похожий на запах проклюнувшихся поганок или дождя, – но мощь его все же смущала Клема. (Гораздо позже, когда он работал в питомнике в Нью-Проспекте, Клем с изумлением обнаружил, что и от его пропотевшей футболки исходит тот же душок. Насколько он знал, в мире так пахнут всего два человека, он и его отец. Интересно, подумал Клем, различает ли еще кто-нибудь этот запах.) Одним толчком отец отправлял качели с Клемом в такую высь, что мальчик от испуга хватался за цепи. Одним легким движением запястья он с такой силой посылал сыну бейсбольный мяч, что тот впивался Клему в ладонь через рукавицу. А как он кричал! Стоило отцу в гневе повысить голос (всегда на Клема, никогда на Бекки), казалось, барабанные перепонки вот-вот лопнут – поневоле пожалеешь, что отец считает неправильным шлепать детей: лучше уж отшлепал бы.
В Чикаго Клему привелось оценить и силу отцовского духа. Прочитав в средней школе “Убить пересмешника”, он с гордостью узнал в Аттикусе Финче отца. Политические взгляды Клема были точной копией взглядов отца, а те уж наверное были искренними, раз выдержали материны похвалы. Он разделял отцово неприятие войны во Вьетнаме и веру в то, что главное сейчас – бороться за гражданские права. Когда отец затеял кампанию против сегрегации в общественном бассейне Нью-Проспекта, Клем ходил по домам, звонил в двери, раздавал брошюры, слово в слово повторял высказывания отца о расовых предрассудках. И хотя размах деятельности у Клема был не тот, что у отца, и кафедры, с которой можно было бы читать проповеди, у него не было, и на автобусе в Алабаму он тоже не ездил, однако в малом он следовал его примеру. Качки из Лифтона, издевавшиеся над педиками и слабаками, быстро смекнули, что от него лучше держаться подальше. Стоило Клему увидеть, как цепляются к слабым, и он распалялся гневом, не замечал боли, так что в драке вполне мог постоять за себя. Ребята, которых он защищал, даже не были ему друзьями: изгоями они сделались не случайно. Он вступался за них потому лишь, что отец научил его: так нужно.
Они вздорили только из-за религии и из-за Бекки. Клему любая метафизика казалась чушью – и Бог Отец, и уж тем более нелепый Святой Дух, – а из-за Бекки у них не заладилось с самого начала: отец то ли ревновал ее к Клему, то ли слишком над нею трясся. Оставаясь наедине с Бекки, Клем замечал в себе своеобразную двойственность. Он набросился бы с кулаками на любого, кто скажет хоть слово против его отца, но постоянно старался подорвать уважение сестры к отцовой вере. Самое странное, что взгляды его были, по сути, христианскими. Он восхищался Иисусом как духовным учителем, как защитником нищих и парий. Но в нем таился упрямый бесенок, язвительно противоречащее альтер эго, дававшее о себе знать, когда они оставались вдвоем с Бекки. Клем втолковывал ей, что не существует ни доказательств существования духовных сил, ни неопровержимых фактов, подтверждающих истинность библейских легенд, что бытие Божие в целом недоказуемо, а “чудеса” невозможно проверить научными экспериментами, – и преуспел. Он сделал из Бекки маленькую атеистку, и это тоже их объединяло, это тоже нравилось ему в сестре – как она кривила губки всякий раз, когда за обеденным столом заходила речь о Боге.
И если Клем из осторожности не заявлял о себе как об атеисте, то отчасти из уважения к Иисусу, а отчасти потому что им с отцом отлично работалось вместе. Отец терпеливо учил его пользоваться инструментами, и Клем, как бы ни уставал, никогда первым не прекращал работу, когда они копали землю, сгребали листву или красили стены. Ему хотелось заслужить одобрение отца – и за политические взгляды, и за отношение к труду, – и он ценил, что отец высказывает одобрение так часто и так горячо: в этом смысле лучшего отца нельзя было и желать. Когда Клем пошел в десятый класс, а отцу вздумалось поставить перед церковной молодежной общиной новую цель, поездку в трудовой лагерь в Аризону, Клем рассудил, что никакая метафизика не помешает ему присоединиться.
Примерно тогда же к ним пришел Рик Эмброуз. В первый год, пока Эмброуз учился в семинарии, а обязанности наставника исполнял лишь в свободное время, он стригся коротко, брился и не перечил помощнику священника. Но на следующее лето, после политических волнений (Клем агитировал за Юджина Маккарти[17], помогал отцу, которому рассекли губу, когда тот пытался разнять стычку между копами и протестующими в Грант-парке) Эмброуз вернулся в общину с усами, как у Фу Манчу, и длинными волосами. Некоторые ребята из церкви, а именно Таннер Эванс, переняли его стиль. На вечерних воскресных сборищах начались скандалы, появилась нетерпимость к авторитетам, длинноволосые парни из других церквей (или вовсе не из церквей) позволяли себе орать, но Клему и в голову не приходило беспокоиться за отца. Кому какое дело, что рукоположенный священник по-прежнему приносит с собой Библию и каждую встречу начинает с метафизической молитвы? Мартин Лютер Кинг верил в Бога, и его из-за этого меньше уважать не стали. Клем не знал никого, кто добивался бы социальной справедливости так же рьяно, как отец, да и если любишь кого-то, человека целиком, то принимаешь со всеми мелкими недостатками, которые, может, и хотел бы изменить. Клем видел, как ребята закатывали глаза, когда отец на собрании общины заводил речь о Боге, но точно так же закатывала глаза и Бекки. Это ведь не значило, что она не любит отца.
К весне 1969 года группа разрослась настолько, что в первый день пасхальных каникул на парковке у церкви ее дожидались два арендованных автобуса. Планировалось поехать в два разных трудовых лагеря в Аризоне, так что имело смысл разделить группу в зависимости от места назначения. Однако быстро выяснилось, что один автобус классный – стал таковым, когда Эмброуз бросил рядом с ним свой багаж, и его тут же обступила компания Таннера Эванса, – а второй нет, в нем оказались Клем с отцом и ребята попроще из Первой реформатской. Для Клема автобус был всего лишь средством передвижения к разреженному воздуху плоскогорья, запаху сосен и жареного хлеба, возможности потаскать камни и позабивать гвозди на благо людей, которых его страна некогда грабила и притесняла. А все эти разговоры – кто классный, кто нет – казались ему ребячеством. В Нью-Проспекте не было человека, который играл бы такую же роль в обществе, как Бекки, и по рассказам сестры Клем знал наверняка, что популярные ребята по-человечески ничем не лучше непопулярных. У него была Бекки, и он никогда не лез из кожи вон, стараясь завести друзей в школе, а те немногие хорошие друзья, которые у него были, не принадлежали к молодежной общине, но он поддерживал дружеские отношения со многими из ребят попроще. Даже угрюмая толстуха, даже заядлый шутник, даже инфантильный болтун скажет что-нибудь интересное, если дать ему успокоиться и удосужиться его выслушать. Так поступил бы Иисус, и Клем с удовольствием следовал его примеру.
Однако отца в простецком автобусе что-то явно тревожило, не давало ему покоя. Их водитель ехал чуть медленнее другого водителя, отец сидел сразу за ним, то и дело наклонял голову, поглядывал на дорогу, точно боялся опоздать. Клем рано заснул. Проснувшись ночью и обнаружив, что отец по-прежнему смотрит в лобовое стекло, списал это на волнение, нетерпение. Правда выяснилась лишь утром, когда их автобус догнал автобус Эмброуза на стоянке грузовиков в Панхандле и отец заставил Эмброуза поменяться местами.
Теоретически в этом не было ничего страшного. Отец – руководитель группы, так что, пожалуй, даже правильно, если он почтит пастырским присутствием второй автобус. Но когда Клем увидел, с каким пылом отец запрыгнул в тот автобус, даже не оглянувшись напоследок, что-то перевернулось в его душе. Он нутром почуял: отец пересел в другой автобус вовсе не потому, что так правильно. А потому что эгоистично хотел туда пересесть.
Вечером, когда они въехали в Раф-Рок, предчувствия Клема подтвердились самым ужасным образом. В темноте, в освещенном фарами облаке пыли поднялась суматоха из-за багажа, потому что группе предстояло разделиться на две части: одна оставалась в Раф-Роке с его отцом, вторая вместе с Эмброузом отправлялась в поселение в Китсилли на плоскогорье. Когда неделями ранее все записывались в ту или иную группу, Клем выбрал Китсилли, потому что его устраивали тамошние суровые условия, большинство же ребят, садившихся в автобус до Китсилли, выбрали его из-за Эмброуза. В том числе и Таннер Эванс с Лорой Добрински, их друзья-музыканты и самые красивые девушки из группы. Автобус был набит битком и готов тронуться в путь, ждали только Эмброуза, как вдруг в салон поднялся отец Клема с вещмешком.
Планы изменились, пояснил он. Будет лучше, если он возглавит группу в Китсилли, а Рик останется в Раф-Роке, где есть общежитие. Автобус ошеломленно затих, потом взорвался возмущенными криками Лоры Добрински и ее друзей, но поздно. Водитель закрыл дверь. Отец уселся рядом с Клемом, на месте возле прохода, и похлопал его по коленке. “Вот и славно, – сказал он. – Мы с тобой целую неделю будем вместе. Так лучше, правда?”
Клем ничего не ответил. Из глубины салона донесся настойчивый, раздраженный девичий шепот. Отец загнал Клема в ловушку, и ему казалось, что он умрет, если не выберется с этого места возле окна. Он впервые стыдился отца, и от этого нового чувства ему было мучительно больно. Дело вовсе не в том, что подумают о нем классные ребята. А в том, что отец показал себя слабаком, когда, злоупотребив своей мелочной властью, присвоил их автобус. И теперь использует сына, притворяясь заботливым отцом, словно ничего такого не сделал.
Притворство продолжилось и на плоскогорье. Старик словно не желал замечать, как презирает его китсилльская группа за то, что он занял место Эмброуза. Он словно и не догадывался, что ему почти пятьдесят, он в два раза старше Эмброуза и не может его заменить. Ну да, он полон сил – возвращение на плоскогорье, общение с индейцами навахо, земля, которую он любит, всегда его бодрила. Но каждое утро, когда он собирал трудовые группы, никто ни разу по доброй воле не присоединился к той, в которой был он. Стоило ему проявить инициативу, организовать группу, начать укладывать инструменты и продовольствие на день, как случалась забавная штука: все девушки, дружившие с Лорой Добрински, менялись местами с кем-нибудь из другой группы. Наверняка отец это замечал, но ни разу не сказал ни слова. Может, трусил раздувать скандал. Или же его не волновало, что о нем подумают девушки. Может, он всего лишь хотел помешать им провести неделю с их любимым Эмброузом.
Клем тоже возглавил группу – единственный из подростков, кому отец доверил такую ответственность. Год назад Клему польстило бы такое доверие, теперь же он радовался лишь, что не попадет в группу к отцу. Днем тяжелый физический труд притуплял страх вернуться в здание школы, где поселилась группа, но в столовой его неизменно ждал позор. Принципы обязывали его ужинать вместе с отцом (остальные его избегали) и покорно поддерживать обманчиво-задушевные беседы о канаве, которую отец копал для сточной трубы. Видя, как сверстники ужинают и смеются, Клем чувствовал себя непривычно отверженным. И мечтал, чтобы его отцом был кто-то другой – кто угодно.
После ужина группа по заведенной в общине традиции собиралась вокруг горящей свечи, делилась чувствами и мыслями о прошедшем дне. Каждый вечер в Китсилли популярные девушки отгораживались стеной молчания. К концу недели отец дошел до того, что спросил самую красивую из них, Салли Перкинс, не хочет ли она что-нибудь сказать группе. Салли уставилась на свечу и покачала головой. Отказ отвечать был настолько вызывающим, а напряжение вокруг свечи настолько велико, что назревала полноценная ссора, но Таннер Эванс безошибочно чувствовал, когда взять аккорд на двенадцатиструнке и запеть песню.
Если отец Клема и обрадовался, что ссоры удалось избежать, то зря. Она разразилась десять дней спустя, на первом воскресном собрании после поездки в Аризону, и оттого, что прежде ее подавили, оказалась ожесточеннее. Вечер выдался непривычно жаркий для апреля, в комнате, где собиралась община, было душно и пахло стропилами, точно на чердаке. Всем не терпелось спуститься в зал для занятий, так что, когда отец Клема вышел вперед, чтобы, как всегда, начать собрание с молитвы, почти все замолчали. Отец взглянул на Салли Перкинс и ее подружек, которые продолжали болтать, и возвысил голос:
– Отче наш, – произнес он.
– В этой комнате не мешало бы повесить кондиционер, – громко сказала Салли Лоре Добрински.
– Салли, – рявкнул из угла Эмброуз.
– Что?
– Тише!
Отец Клема, помолчав, начал снова:
– Отче наш…
– Нет! – перебила Салли. – Извините, но нет. Меня тошнит от его дурацких молитв. – Она вскочила, обвела глазами комнату. – Кого еще тошнит от них так же, как меня? Он испортил мне поездку. И если он сейчас же не замолчит, меня в прямом смысле вырвет.
В ее голосе сквозило такое презрение, что все онемели от ужаса. Что бы ни происходило в стране в целом, как бы дерзко ни ставили под сомнение авторитет властей, никто не отваживался так вести себя в церкви.
– Меня тоже от них тошнит. – Лора Добрински встала. – Значит, нас уже двое. Кто еще?
Разом поднялись все популярные девушки. Жара в комнате душила Клема. Лора Добрински обратилась к его отцу:
– И молодым навахо вы тоже не нравитесь, – сказала она. – Их тошнит от вашей помощи. Они не хотят, чтобы белый мужик снисходительно объяснял им, чего хочет от них его белый Бог. Вы вообще понимаете, как выглядите со стороны? К старикам вы, может, и находили подход, но это было раньше. А может, их и сейчас все устраивает. Но они старики. Теперь эта миссионерская фигня даром никому не нужна.
Рик Эмброуз, скрестив руки на груди, разглядывал собственные ботинки. Отец Клема побледнел.
– Можно я кое-что скажу? – спросил он.
– Может, в кои-то веки послушаете других? – парировала Лора.
– Пусть я больше ни на что не гожусь, но уж слушать-то я умею. Слушать – это мой долг.
– Тогда почему бы вам не послушать себя самого? Что-то незаметно, чтобы вы это делали.