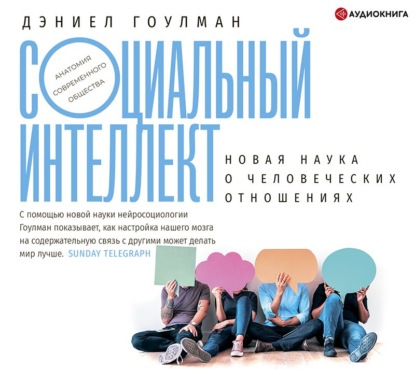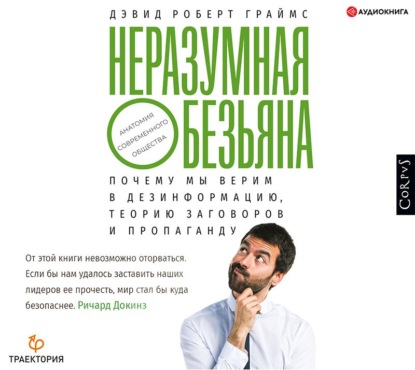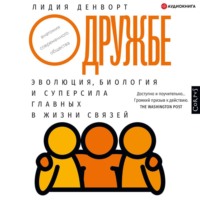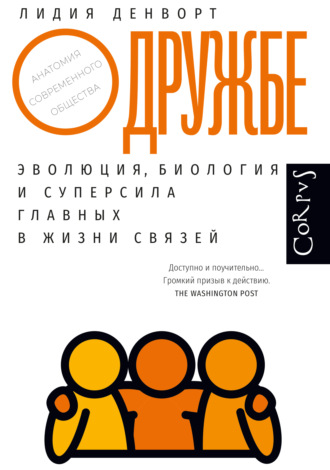
Полная версия
О дружбе. Эволюция, биология и суперсила главных в жизни связей
В то время, когда готовилась конференция Королевской медико-психологической ассоциации, Боулби был занят поиском данных, которые могли бы подкрепить его идею о том, что для детей невероятно важны эмоциональная привязанность, тесные отношения с теми, кто о них заботится. Он стремился выйти за пределы психиатрии и обращался к смежным областям. Этология вызвала у него большой интерес, и ученый принялся искать человека, который помог бы приложить идеи этой науки к гипотезе о важности ранней привязанности. Годом ранее Лоренц с восторгом сообщил Боулби о блестящих способностях Хайнда. И после конференции Боулби пригласил своего молодого коллегу на обед.
Несхожесть характеров Боулби и Хайнда была компенсирована близостью их научных взглядов. Оба были любопытны, проницательны и хотели учиться. К окончанию трапезы Боулби был совершенно очарован Хайндом и понял, что нашел своего проводника в мир эволюционного мышления. Вместе они оповестили общественность о новом понимании важности и эволюционной адаптивности связей между индивидами. Привязанность, как открыли Боулби и Хайнд, не только имеет огромное значение для младенцев, но и помогает объяснить суть дружбы, связывающей людей всех возрастов.
Для того чтобы понять биологическую основу дружбы, надо для начала разобраться в том, что такое дружба и что требуется для ее возникновения. Биологическая составляющая намного более очевидна в других случаях социальных взаимодействий, например между матерью и ребенком – беременность, роды и вскармливание являют собой очевидные биологические процессы. То же самое касается половых отношений – никто не сомневается в том, что гормоны и нейромедиаторы играют тут решающую роль.
Дружба – материя более тонкая. Она касается феноменов, на первый взгляд, неосязаемых – таких, например, как эмоции, словесное общение и внутренняя работа ума. Для дружбы характерны очевидные культурные обертоны, маскирующие ее биологические основы. Так, совместные трапезы могут отличаться сотнями оттенков – это и древние вакханалии, и благотворительные церковные обеды, и девичники. Все эти трапезы являются способами социализации, но что вообще стоит за потребностью людей собираться за столом? Более примитивное, базовое стремление к единению.
У дружбы нет четко очерченных границ, что позволяет трактовать ее очень широко. Некоторые весьма ревниво относятся к самому этому слову и обозначаемому им понятию, приберегая слово «друг» только для немногих избранных. Другие же более щедры в его употреблении, иногда даже используют как обобщающий термин. «Друзья, римляне, соотечественники, одолжите мне ваши уши», – говорит Антоний в трагедии Шекспира «Юлий Цезарь». В результате часто размываются границы между друзьями и всеми прочими. Если исключить из круга друзей ваших родственников и половых партнеров, то вы не сможете назвать «лучшими друзьями» ни сестру, ни супруга. Однако мы очень часто именно так их и называем. С появлением социальных сетей само слово «друг» совершенно обесценилось, практически лишившись содержания и смысла. На Фейсбуке я «дружу» с людьми, с которыми училась в школе и колледже, но которых я едва ли узнаю, если мы случайно столкнемся на улице. Среди моих «друзей» те, с кем я встречаюсь ежедневно, и те, с кем я не виделась уже тридцать лет; однако дружу я с ними по-разному.
Очевидно, наша неспособность точно определить какое-то явление не означает, что его невозможно понять. Тем не менее ученые не склонны изучать явления, которые невозможно или трудно определить или измерить. Многие великие мыслители прошлого также не жаловали дружбу своим вниманием. Когда Майкл Пакалюк, профессор этики Вашингтонского католического университета, задумал в 1991 году собрать «главные философские сочинения о дружбе» – все, от Сократа, Монтеня и Ральфа Уолдо Эмерсона до вышедшего в 1970 году эссе писательницы Элизабет Телфер, – оказалось, что найденного едва хватит на «тощую антологию»[24]. Одни философы считали дружбу неинтересным предметом исследования, другие – неважным, не имеющим никакого значения. Внутренне присущая дружбе пристрастность отдает покровительством или противоречит философии морали[25]. Как бы то ни было, даже при самом ограниченном определении понятия я всегда предпочту друга любому человеку, который мне другом не является, я всегда с большей вероятностью окажу услугу своему другу, чем просто знакомому. Суть дружбы именно в таких дифференцированных отношениях. Нигде этот основной принцип не звучит так явственно, как в известной поговорке: «Друг поможет тебе сдвинуть дом, а хороший друг поможет сдвинуться с места самому»[26].
Афинские философы уделяли массу времени совместным прогулкам с друзьями и поэтому весьма убедительно писали о дружеских отношениях. Диалог Платона «Лисид» начинается с упоминания о том, как Сократ на пути из Академии в Ликей был приглашен присоединиться к группе молодых людей, стоявших у входа в палестру, где они любили собираться. «Мы здесь проводим время… Проводим же мы время большей частью в беседах, к которым с радостью привлечем и тебя», – говорят юноши Сократу. Он соглашается в основном потому, что рассчитывает получить удовольствие от беседы. «Философия, в том виде, в каком практиковал ее [Сократ], часто является выражением дружбы определенного сорта», – пишет Пакалюк[27]. Но, признавшись в «горячих» чувствах к своим друзьям, Сократ при этом оставляет читателя в полном неведении относительно того, что же это такое – друг.
У Аристотеля взгляд на дружбу отличается большей ясностью; он намного ближе к современному пониманию феномена. Его мысли по этому предмету так глубоки, что повлияли на практически все представления, возникшие позже. Русскому и английскому слову «дружба» примерно соответствует древнегреческое слово philia, и Аристотель считал philia одной из чистых, беспримесных радостей жизни. Он полагал, что philia может иметь разные оттенки: для выгоды (деловые отношения), для удовольствия (романтическая любовь) и для добродетели (истинная встреча умов). Аристотель также утверждал, что дружба, в самом широком смысле, необходима всем людям – богатым, бедным, молодым, старым, мужчинам, женщинам – и даже животным (эта последняя мысль была впоследствии забыта на тысячи лет). Он понял, что дружба требует позитивных чувств, взаимности, времени и знакомства. «Как гласит пословица, [люди] не могут познать друг друга, пока не разделят за трапезой традиционную [щепоть] соли, – писал он, – и не могут принять друг друга, или стать друзьями, до тех пор, пока не покажутся любезными друг другу и не завоюют взаимного доверия… ибо если стремление к дружбе приходит скоро, то сама дружба – нет»[28]. Однако самая дерзкая мысль Аристотеля: «друг – это второе я». Спустя две с половиной тысячи лет нейрофизиологи и генетики показали, что эта мысль более верна, нежели мог себе представить даже ее автор.
В XVIII веке шотландский философ Адам Смит, автор «Богатства народов» и создатель современной экономической науки, высказал прозорливую мысль, нашедшую подтверждение лишь много позже. Смит был одним из первых, кто заговорил об эмпатии, – в опубликованной в 1759 году книге «Теория нравственного чувства» он назвал ее «общим чувством». Смит смог увидеть, что эмоция, позволяющая индивиду физически ощутить то, что чувствует другой человек, является основой нравственности; он оптимистично изобразил политику, основанную на личной дружбе, каковая смогла бы объединить людей, создав нравственное и экономически справедливое общество[29]. Предвидение Смита не оправдалось, и это еще мягко сказано.
Когда в конце XIX века родилась научная психология, ее великий первопроходец Уильям Джеймс высказал догадку, что у психологических процессов существует биологический фундамент. Он прозорливо утверждал, что не всегда люди как должно питают свои социальные связи: «Люди ненадолго приходят в эту жизнь, наилучшим украшением которой являются дружба и близость, и очень скоро ее покидают, не оставляя следа, но, несмотря на это, они оставляют дружбу и близость без ухода, предоставляя им расти как траве на обочине, надеясь, что они сохранятся силой инерции»[30].
В ту же эпоху предвестником более современного понимания значимости социального контекста стала работа французского социолога Эмиля Дюркгейма. Он понял, что люди внедрены в определенные общественные группы, а эти группы могут осязаемо влиять на благополучие их членов. Дюркгейм также подчеркнул опасность социального отчуждения, которое он назвал аномией. В своей новаторской книге о природе самоубийства, вышедшей в 1897 году, он показал, что люди, вовлеченные в обширные социальные связи, менее склонны к суициду, и подчеркнул, что индивидуальные особенности не являются единственным фактором, побуждающим к самоубийству[31]. Это сделало Дюркгейма одним из первых ученых, недвусмысленно связавших узы дружбы с душевным здоровьем.
Тем не менее господствующие психологические школы – психоанализ и бихевиоризм – продолжали игнорировать дружбу. Зигмунд Фрейд рассматривал все отношения сквозь призму пола, а бихевиористы впали в другую крайность: они сосредоточились только на тех проявлениях психической деятельности, которые поддавались наблюдению и объективному анализу. Обе традиции затормозили научное изучение простого старого чувства привязанности и любви.
Таково было положение, когда явился Боулби. Он был убежден в фундаментальной важности отношений раннего детства, но, приступив к анализу имеющихся исследований, нашел очень мало источников, которые бы рассматривали проблему под этим углом зрения. Догму начала XX века могут исчерпывающе проиллюстрировать «Психологические основы ухода за ребенком» Джона Уотсона, президента Американской психологической ассоциации (книга была написана в 1928 году и стала бестселлером). Автор посвятил целую главу «опасности избытка материнской любви». Как пишет известная журналистка Дебора Блюм, его теорию можно свести к следующему утверждению: «Слишком частые материнские объятия и ласки могут сделать детство несчастным, а юношество превратить в кошмар, и даже настолько деформировать психику ребенка, что он вырастет неготовым к браку». Более того, Уотсон полагал, что непоправимый ущерб психике ребенка может быть причинен в течение буквально нескольких дней[32].
В середине XX века научные работы, касавшиеся раннего детства, были в основном посвящены недостатку родительского внимания. Таких исследований было немного, но они были на редкость добросовестны. Одна из первых работ такого рода была опубликована в начале сороковых годов. Психоаналитик Рене Шпиц в сотрудничестве с психологом Кэтрин Вулф пришел к выводу, что наилучший способ объективно оценить важность присутствия матери – это наблюдение за лишенными ее детьми. Шпиц прекрасно знал, как ужасна судьба детей, живших в приютах. В некоторых учреждениях детская смертность достигала 70 %. «[У помещенных в приюты детей], практически без исключений, развивались психиатрические расстройства, выражавшиеся в асоциальном поведении, склонности к правонарушениям, неустойчивости мышления, психозах или иных проблемах», – писал Шпиц. Причинами, как представлялось, были отсутствие стимуляции и отсутствие матерей. Прикрываясь требованиями гигиены, руководство приютов настолько далеко заходило в стерилизации среды, что «стерилизовало детскую психику», – сетовал он[33].
Для того чтобы изучить проблему, Шпиц наблюдал 164 ребенка в течение первого года жизни. Шестьдесят один ребенок находился на попечении нянечек в традиционном детском приюте. Остальные жили с родителями в разных условиях, включая и тюрьмы для осужденных матерей. Дети, росшие с родителями, как дома, так и в тюремных условиях, развивались приблизительно одинаково – судя по результатам доступных в то время психологических тестов. Особенно хорошо развивались дети, воспитывавшиеся в тюрьме, и Шпиц объяснял это тем, что их молодые матери просто души не чаяли в своих отпрысках. Дети, находившиеся в приюте, напротив, буквально чахли. Чрезвычайно чувствительные к инфекциям и подверженные другим заболеваниям, они «умирали от тоски», – писал ученый. Это болезненное состояние он назвал «госпитализмом», который определял как «условия, калечащие организм». Отрезанные от всякой визуальной стимуляции простынями, повешенными на ограждения их кроваток, они были лишены также игрушек и любых человеческих контактов на протяжении почти всего дня. «Каждый ребенок лежит в тесной кроватке до тех пор, пока не обретает способность самостоятельно встать». Правда, не всем детям было суждено дожить до этого переломного момента. Шпиц пришел к выводу, что не только недостаток физической, чувственной стимуляции приводил к депривации детей. «Мы считаем, что они страдали из-за того, что их чувственный мир был лишен человеческого общения, человеческого партнерства». Шпиц наблюдал помещенных в приют детей на протяжении первых двух лет жизни. Эти дети катастрофически отставали в развитии, 37 % из них умерли[34].
Поняв, что научные статьи не побуждают людей к действию, Шпиц и его единомышленники перешли к более наглядной, образной агитации. В 1947 году Шпиц снял черно-белый фильм под названием «Горе: угроза детству». Зрителю представляли одного за другим детей, которые поступали в приют счастливыми и пухлыми, а затем, в течение буквально нескольких недель, превращались в тени. Неулыбчивые, часто плачущие, они тянулись к Шпицу в отчаянной попытке найти в нем мать. На табличке, прикрепленной к кроватке одного из этих несчастных детей, было написано: «Лечение: верните ребенку мать»[35]. Второй фильм на ту же тему был снят в пятидесятые годы шотландским врачом и ученым Джеймсом Робертсоном. Название фильма говорит само за себя: «Двухлетнее дитя поступает в госпиталь». В те времена родителям госпитализированного ребенка дозволялось посещать его лишь раз в неделю на очень короткое время. Врачи и персонал были уверены, что такая изоляция необходима из гигиенических соображений и что дети от нее совершенно не страдают. Однако из фильма Робертсона следовало нечто совершенно противоположное. В нем рассказывается об очаровательной двухлетней Лоре, которая весьма уверенно вела себя по прибытии в больницу, но уже через неделю умоляла родителей забрать ее домой, а еще через неделю в разговоре с ними уже едва могла произносить членораздельные слова. «В конце фильма мы видим оцепеневшего, молчаливого и бесчувственного ребенка», – пишет Блюм[36].
Психиатры в своем большинстве отмахнулись от всех этих усилий как от невыносимой и антинаучной сентиментальщины. Но Боулби не последовал их примеру. Фильм Робертсона произвел на него неизгладимое впечатление и утвердил его во мнении, что детям в первые годы жизни необходима любовь. В 1951 году Боулби представил Всемирной организации здравоохранения весьма тревожный доклад. «Материнский уход за ребенком – это не повинность, которую по расписанию может выполнить медицинский персонал; этот уход требует живого человеческого отношения, каковое меняет характер обоих его участников», – писал он. Впечатляющий доклад о связи между материнской заботой и душевным здоровьем ребенка поднял волну интереса, но нужны были более весомые доказательства, и Боулби решил, что сможет найти их в этологии[37].
Этология в то время была новой наукой. Лоренц, совместно с голландцем Нико Тинбергеном, многие годы преподававшим в Оксфорде, и своим соотечественником Карлом фон Фришем, взял на вооружение радикально новые методы и цели, что принесло всем троим Нобелевскую премию 1973 года[38]. Во-первых, они стремились изучать животных в естественной среде их обитания, а не в неволе. Во-вторых, они ярко доказывали, что сложные элементы поведения являются таким же следствием эволюции, как и анатомические признаки, например рога и клювы. Так, фон Фриш расшифровал значение виляющего танца медоносных пчел[39]. После обнаружения обильного источника пищи пчела возвращается в улей и передает информацию другим пчелам, выписывая на поверхности сот восьмерки. По ориентации этих восьмерок и по некоторым другим характеристикам танца пчелы понимают, в каком направлении надо лететь за нектаром и как далеко тот находится. В 1951 году Тинберген опубликовал ставшую популярной книгу «Изучение инстинкта», которая представила идеи этологии широкой аудитории. Именно эта книга в первую очередь привлекла внимание Боулби. Двенадцать лет спустя Тинберген напишет не менее важную работу, в которой были сформулированы четыре вопроса, определившие направление последующих этологических исследований. В этих вопросах выражена суть двухуровневого подхода: как и почему животные ведут себя определенным образом, и эти вопросы лежат в основе современного изучения дружбы. Какие факторы определяют поведение (то есть какие физиологические процессы лежат в его основе)? Как оно меняется на протяжении жизни животного? Какова адаптивная ценность дружбы? И как именно эволюционировало такое поведение?[40]
Среди первых достижений этологии одним из важнейших стало открытие Лоренцем феномена импринтинга. За счет этой способности к запечатлению птенцы учатся узнавать своих родителей. После серии экспериментов Лоренц пришел к выводу, что птенцы социально привязываются к первому увиденному ими «заметному предмету» – большему, чем спичечный коробок, и движущемуся. Даже красная вращающаяся коробка или зеленый мяч могут восприниматься птенцами как мать – так утверждал Лоренц. В своих самых знаменитых опытах он заставлял птенцов уток и гусей воспринять себя как родителя; известна классическая фотография, на которой за ученым по лугу семенит стая юных серых гусей[41].
Боулби сразу оценил важность этого нового мышления о поведении. Он был глубоко убежден, что типичное поведение маленьких детей определяется причинами, коренящимися в глубинах человеческой истории. В одной из их многочисленных и долгих дискуссий Хайнд, вероятно, и рассказал, что «птенцы утки должны все время находиться поблизости от матери, иначе их может привлечь и заманить к себе сапсан или другая хищная птица, и Боулби принял это к сведению и включил в свое понимание детского поведения». В Хайнде Боулби нашел редактора и интеллектуального соратника. Этолог читал все ранние статьи психиатра по теории привязанности, а затем отсылал их автору, испещренные красным карандашом, – как работы его студентов. (В благодарность Боулби посвятил Хайнду одну из своих книг.)
Боулби, также с помощью Хайнда, стремился доказать, что дети, оказавшиеся в изоляции в госпитале и так ярко показанные в фильме Робертсона, реально приобретали серьезные психические и физические заболевания. На своей полевой биостанции в Мэдингли, где прежде проводились опыты исключительно на птицах, Хайнд создал колонию макак-резусов, для того чтобы изучить последствия разлучения детенышей с матерями. Ученый обнаружил, что разлучение на самом деле вызывало определенные трудности у обезьян, но он также выяснил, что не все отношения между ними были эквивалентны. Результаты разлучения варьировали в соответствии с качеством детско-материнских отношений, и, более того, сами эти отношения варьировали в зависимости от социального контекста. Хайнд начал понимать, что критически важно определить, что такое взаимоотношения и как их могут изменять внешние обстоятельства[42]. После множества экспериментов и длительных размышлений он пришел к определению, которое рассматривало отношения – в том числе и между друзьями – как результат повторных взаимодействий между двумя индивидами, причем каждое из них строится на фундаменте предшествующего. Это определение объясняет, почему приятный разговор заставляет вас желать продолжения беседы, причем с каждым разом общение, таким образом, оказывается богаче.
Работа с макаками привела Хайнда в только что возникшую науку приматологию, в которой он вскоре приобрел немалый авторитет, сделавшись наставником таких необычных студентов, как, например, Джейн Гудолл (получившая, не окончив колледжа, степень доктора Кембриджского университета по предложению Луиса Лики) и Дайан Фосси, применявшая нетрадиционные методы в опытах с гориллами в Руанде[43]. Хайнд высоко ценил обеих женщин за то, что они убедили его в важности индивидуальных отношений и в существовании индивидуальных различий у животных.
Кроме того, Хайнд познакомил Боулби с работами Гарри Харлоу, американского психолога из Висконсинского университета[44]. Так же, как Боулби и Хайнд, тот считал, что сможет открыть некоторые фундаментальные истины о любви и преданности, изучая отношения матери и ребенка не у людей, а у обезьян. Блистательный новатор, Харлоу выполнил ставшие знаменитыми эксперименты на макаках-резусах, казавшиеся тогда, в пятидесятые, спорными, но предоставившие ученым мощные аргументы. В книге «Любовь в парке убийц», биографии Харлоу, Дебора Блюм пишет, что сила его работы, соединившей любовь с пониманием жизни, «заставляет отчетливо увидеть, какую огромную роль в ней играют отношения». Харлоу был твердо убежден, что это самый ценный результат его трудов: «Если обезьяны чему-то нас научили, так это тому, – говорил он, – что прежде чем учиться жить, надо научиться любить»[45].
Ученый делал с обезьянами то, что было невозможно делать с людьми (и то, что сегодня нельзя делать и с обезьянами). Он манипулировал их воспитанием, изолировал детенышей, предоставлял им неодинаковый уход и помещал в компании различных товарищей по играм в разные периоды их жизни. В одном из самых показательных опытов Харлоу отлучал детенышей от матерей и помещал юных макак в клетку, где находились две «суррогатные матери». Обе они представляли собой сооружения из проволочной сетки, увенчанные чем-то отдаленно напоминающим лицо. Главное различие «матерей» заключалось в том, что у одной в центре корпуса была размещена бутылка с молоком; вторая же была закутана в мягкую махровую ткань, но пищу не предлагала. Юные мартышки безошибочно шли к проволочной фигуре с бутылкой только для того, чтобы поесть. «Мамой» же для них была мягкая и пушистая. Это означало, что одной только пищи, вопреки господствовавшим фрейдистским теориям, недостаточно для формирования детско-материнских уз.
В конце пятидесятых годов Боулби опубликовал статью «Природа привязанности ребенка к матери»[46]. В ней он заложил начала теории привязанности, показав ее эволюционное происхождение. Быть любимым очень важно. Это утверждение лежит в основе теории. Хотя младенец нуждается и во многих других вещах – пище, укрытии, чистоте и безопасности, – самое большое значение для него имеет любовь. Новорожденный ребенок мало что может, но все в его ограниченном поведенческом репертуаре – «сосание, прижимание, копирование, плач и улыбка» – предназначено для обеспечения любви за счет привязывания к себе родителя, писал Боулби[47]. Он открыто отстаивал адаптивную ценность такого поведения. Без заботливого родителя ребенок умрет. Просто умрет, так как не сможет жить.
Революционность такого взгляда трудно переоценить. В британском сообществе психиатров Джон Боулби стал персоной нон грата; его перестали приглашать на встречи. Сегодня же его справедливо вспоминают как человека, фундаментально изменившего наши представления о первых годах человеческой жизни. В меньшей степени признано другое его достижение, имеющее большое значение для понимания природы дружбы. Хотя Боулби сосредоточил свои исследования на отношениях матери и ребенка, он в конце концов пришел к пониманию привязанности как пожизненного феномена. В первой книге своей фундаментальной трилогии «Привязанность» он писал, что и в юношестве, и в зрелом возрасте привязанность как форма поведения является «непосредственным продолжением» такого же поведения в детстве и, помимо семьи, направляется во внешний мир, в том числе на общественные группы и учреждения. Как отмечал ученый, в дни болезней и бедствий взрослым часто требуются другие люди; в условиях внезапно возникшей опасности человек почти всегда ищет близости других людей, которых он знает и которым доверяет. У Боулби вызывал резкое неприятие фрейдистский взгляд, согласно которому такое поведение считалось неестественным. «Назвать поведение привязанности во взрослой жизни регрессивным – на самом деле значит не увидеть ту исключительно важную роль, которую оно играет в жизни человека от его рождения до смерти»[48][49].
Всего через несколько лет после знакомства Боулби и Хайнда завязались еще одни дружеские отношения, имевшие большое значение для изучения дружбы. Это знакомство состоялось в Массачусетсе. В 1956 году двадцатишестилетний Стюарт Альтман постучался в дверь кабинета гарвардского биолога Эдварда Уилсона. У Альтмана были неприятности. Недавно приехавший в Гарвард докторант, высокий, чрезвычайно серьезный бородач, стал там белой вороной из-за своих необычных интересов. Получив магистерскую степень по биологии в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, Альтман два года прослужил в армии в должности паразитолога; один из сослуживцев рассказал ему о необычайном острове возле Пуэрто-Рико, где на воле живут обезьяны. Альтмана, собственно, и до этого интересовало социальное поведение. История о Кайо звучала заманчиво – там можно было заняться сбором материала о социальных взаимодействиях, а затем на его основе написать докторскую диссертацию. Но область подобных исследований была в то время новой и неизведанной; немногие ученые пробовали себя на этом поприще[50]. Практически никто не изучал жизнь животных в природе, за ними наблюдали только в неволе. (Европейцы в то время занимались по преимуществу птицами и насекомыми.) До приезда Джейн Гудолл в заповедник Гомбе, где ей было суждено изменить представления ученых и широкой публики о шимпанзе, оставалось еще целых четыре года. В результате, когда Альтман стал искать наставника и руководителя, ни один из гарвардских биологов не заинтересовался его идеями, да, собственно, никто и не знал, в чем должно было заключаться руководство. Наконец декан факультета отправил Альтмана к Эду Уилсону, бывшему в то время младшим научным сотрудником. «Мы на 95 % уверены, что в следующем году он станет штатным преподавателем, – сказал декан Альтману. – Поговорите с ним»[51].