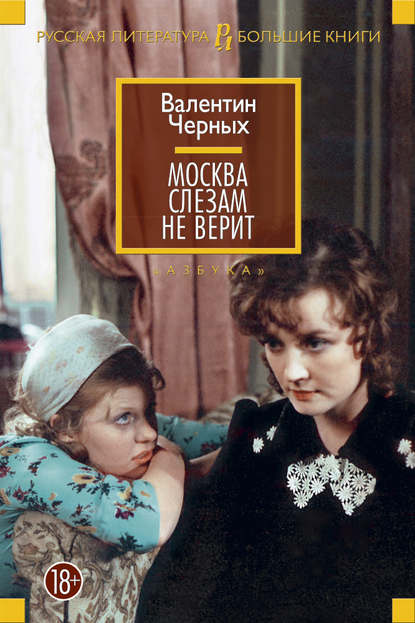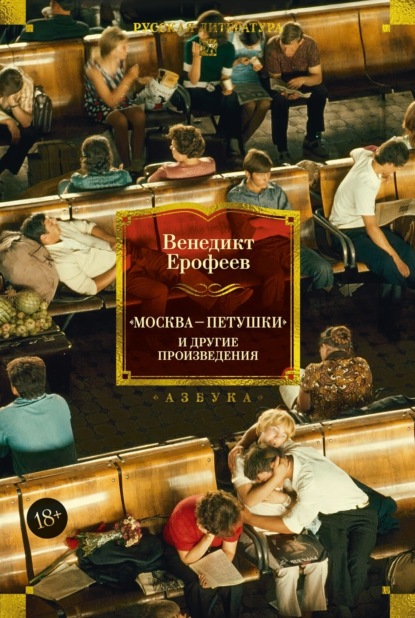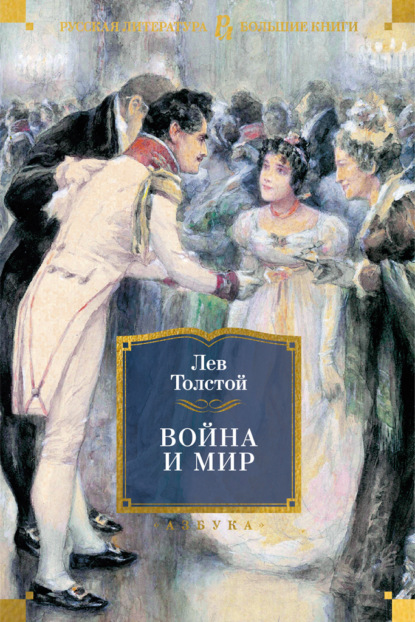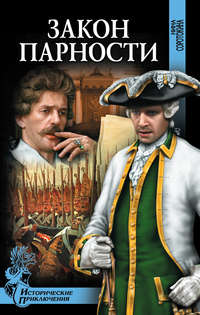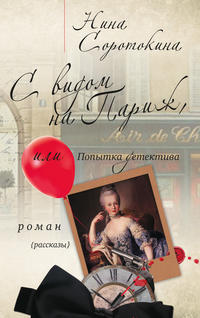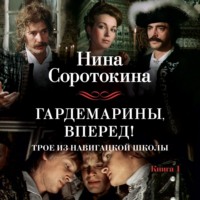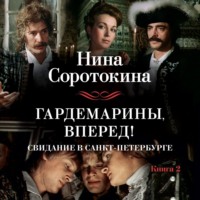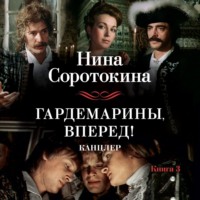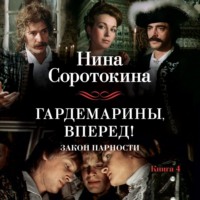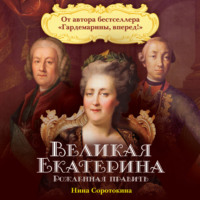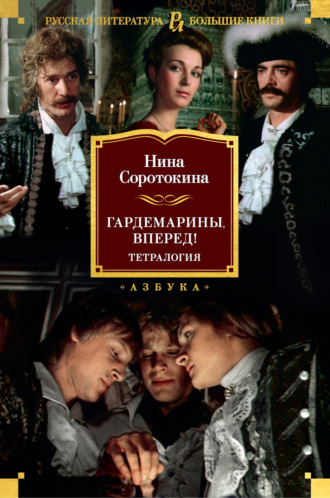
Полная версия
Гардемарины, вперед!
«Куда клонит он? – мучительно размышлял Саша. – Кто ему нужен – я, Котов или он к Алешке на мягких лапах подбирается? Рисуйте, Василий Федорович, я скорее язык себе откушу, чем сболтну лишнее».
– Понятно. Ты ездил опознать француза де Брильи и опознал. А Бергер зачем ехал?
– Наверное, за Ягужинской, – подумав, сказал Саша. – Она ведь была под следствием. – Отвечая так, Саша был спокоен – Анастасия была уже недосягаема для Тайной канцелярии.
– Скажи, а про некие бумаги… или, скажем, письма… там разговора не было? – Лядащев оторвался от рисунка и внимательно посмотрел на Сашу.
– Нет, Василий Федорович, при мне не было.
«Ах, как хорошо, как спокойно я ответил! Не отрепетируй я все это у Лестока да по тем же пунктам, оплошал бы, пожалуй. Ишь как взглядом буравит… Допросы вы умеете вести, господин Лядащев! И что это за бумаги такие, что вы все на них помешались. Не мешало бы узнать…»
Еще несколько вопросов, так… вроде бы безобидных – как выглядит де Брильи, да отчего вспыхнула драка, и Лядащев, спрятав исчерченную бумагу в карман, поднялся. Уже в дверях, он, словно вдруг вспомнив, обронил неожиданную фразу:
– Тебя Пашка Ягупов зачем-то разыскивал. Говорит, увидишь Сашку, пусть приходит сегодня на маскарад.
– Маскарад? Где?
– Наверное, рядом у Имбера. Вон у твоего хозяина «Ведомости» лежат. Там все написано.
Как только Лядащев ушел, Саша схватил газету. «Надо искать отдел объявлений. Та-ак… „Продается беспородная бурая лошадь…“ „Привет от белокурой Марии…“ „Продается за излишеством женщина тридцати лет…“ А то бы написал за скверный характер… Это не то… „Оставлены в забытии в Зимнем дворце английские золотые часы…“ Дурак безмозглый… Ага, вот! „В бывшем доме графа Ягужинского, что на Малой Морской улице, имеет место быть маскарад, где и всякое маскарадное платье за умеренную цену найти можно“».
– В доме Ягужинского! – воскликнул Саша. – И действительно сегодня.
– Пойди, друг мой. Попляши. Погрей душу и тело, – раздался голос Лукьяна Петровича, который неслышно вошел в комнату и стал у Саши за спиной.
Маскарады в описываемое время были любимым развлечением петербургской публики. Тон задавала сама государыня. Двор веселился изысканно и бесшабашно. Из Парижа и Дрездена присылались описания праздников с подробными рисунками убранства залов и садов, с программами театрализованных представлений. Куртаги, балы, банкеты, комедия французская, итальянская и русская. Чем только не забавлялся двор! Но самым любимым видом увеселения был маскарад. В Зимнем дворце Елизавета завела обычай, вернее даже сказать, повинность, не всегда желанную, – все имеющие доступ ко двору обязаны были являться в маскарадные вторники. За неявившимися посылались гофкурьеры и чуть не силой везли в маскарад, а если кто проявлял упорство, то облагался штрафом в размере пятидесяти рублей. Болен не болен, покойник ли в доме – плати.
Иногда маскарады оборачивались еще большей неприятностью. Государыня любила шутку и нередко появлялась на праздниках в мужском платье, которое отнюдь ее не портило, а подчеркивало стройность ног и тонкость талии. В такие вечера статс-дамы и гоффрейлины, «хоти не хоти», а следовали примеру императрицы, затягивали на тучных бедрах кюлоты, выставляя на всеобщее обозрение слишком полные или, хуже того, слишком худые ноги. Но мужчинам было не до насмешек. Они должны были исполнять роль дам и, чувствуя себя пугалами огородными, шутами гороховыми, мерили залу маршевым шагом, наступая друг другу на шлейфы, опрокидывая кресла обширными фижмами. Музыка, танцы и вино, вино…
Столь велик был интерес к маскарадам, что иногда на праздники для дворян пускали купечество. Понадобился специальный царский указ, чтобы остановить поток желающих приобщиться к дворянской потехе. «Надлежит в маскарад ездить не в гнусном платье, – гласил указ, – в телогреях, полушубках и кокошниках не ездить». Люди делились на категории, и каждому надлежало одеваться соответственно – кому «в цветном», кому «в богатом». Дамы должны были приезжать в «доминах с боутами» и быть «на самых-самых малых фижменах, чтобы обширности были малыя». Пилигримские, арлекинские и непристойные деревенские костюмы были запрещены.
Вечером, сияя отутюженным кафтаном, чувствуя подбородком приятную жесткость накрахмаленного жабо, Белов подошел к дому Ягужинского.
На Малой Морской улице царила полная неразбериха. Несчетное множество колясок, портшезов, желтых извозчичьих карет заполнило узкую улицу. Испанки, венецианки, Дианы-охотницы в смелых хитонах, средневековые дамы в колпаках с кисеей – все трещали веерами, смеялись и кокетничали с испанцами, венецианцами, Марсами и средневековыми маврами. И всем им, охрипнув от усердия, невзрачного вида человечек повторял: «Через четыре дня, господа! Произошла ошибка. Четырьмя днями позже, сударыня! Сегодня пост, господа, таков указ государыни…»
«Чушь какая, – подумал Саша. – Понятно, что маскарад запрещен. Но зачем говорить, что сегодня пост да еще по указу государыни? Уж не связано ли это с казнью заговорщиков? Значит, мне осталось четыре дня?»
– Белов! – вдруг кто-то крикнул. Саша оглянулся и узнал Бекетова. – Иди сюда, я тебя представлю.
Прокладывая себе путь локтями, Саша протиснулся к поручику и увидел рядом с ним миловидную блондинку в голубом плаще.
– Елена Николаевна, оч-ч-аровательная амазонка Петербурга. Она поет, как дрозд, как флейта. Мы устраиваем маскарад дома. Тебя зовут в гости, Белов.
– Спасибо, сударыня. – Саша учтиво поклонился. – Для меня это великое счастье, но я рискну ответить отказом. Этот вечер не принадлежит мне. Я должен встретиться с неким господином.
– В моем доме будет и Павел Иванович Ягупов. – Амазонка воткнула в Сашину петлицу пунцовую розу и засмеялась, как бы говоря: «Я все про вас знаю».
– Я ваш гость и пленник, сударыня. – И Саша коснулся губами ручки Елены Николаевны.
Очаровательная амазонка жила на берегу Фонтанки в одноэтажном деревянном особнячке – восемь окон по фасаду, посередине дверь с полукружьем окна над ней, крутая двухскатная крыша и две беседки по торцам.
Когда-то таких усадеб было в России около тридцати. Петр, желая, чтобы его любимый город был застроен по европейскому образцу, велел архитектору Трезини разработать проекты домов для «именитых, зажиточных и подлых». За двадцать лет пожары, наводнения и перестройки уничтожили большее количество этих образцовых зданий, и усадьба Елены Николаевны являла собой последнее напоминание о типовой застройке царского Парадиза.
Общество собралось исключительно мужское. Был здесь артиллерийский офицер, говорливый и шумный, послушав его минуту, каждый мог создать себе впечатление, что артиллерия существует только для того, чтобы грамотно, с толком и красотой, устроить праздничный фейерверк. Был капитан-пехотинец, носивший противу устава усы, чем немало все забавлялись. Был вюртембергский немец в форме поручика Измайловского полка, застенчивый и доброжелательный юноша. Он весь вечер тихо сосал бургундское, и, словно извиняясь за свою истовую службу Бахусу, время от бремени склонялся к капитану и произносил немецкую пословицу, что-нибудь вроде: «Ohne schnaps ist einem die Rehle zu trocken», тут же переводил ее на русский: «Без водки – сухо в глотке» – и опять принимался за бургундское. Был геодезист, окончивший когда-то навигацкую школу. Он держал Сашу за рукав и с восторгом вспоминал знакомых преподавателей.
Душой компании была, конечно, Елена Николаевна. Она пела, танцевала. Музыкальный ящик без умолку повторял одну и ту же серебряную мелодию, газовый шарф летал по комнате. Бекетов был прав, голос ее напоминал нежные звуки флейты. Песни в большинстве своем были малороссийские, страстные. «Черные очи, волнующий взгляд…» – пела Елена Николаевна и ударяла по струнам гитары красивой, не по-женски крупной рукой.
Ягупов появился внезапно и остановился в дверях, обводя глазами веселую компанию. Встретившись взглядом с Беловым, он сказал:
– Леночка, голубушка, нам бы поговорить…
Елена Николаевна обняла Ягупова за плечи.
– Иди в угольную гостиную. Там вам никто не помешает. Мамаша спит. Сашенька, захвати свечу.
Белов пошел вслед за Ягуповым. Комната, которую хозяйка назвала угольной гостиной, не соответствовала своему названию ни первым, ни вторым смыслом: она располагалась не на углу и походила более всего на кладовую для отжившей свой век мебели: громоздких лавок, поломанных стульев. Окна этой странной комнаты выходили на оранжерею в тенистом саду. Стекла парников, освещенные луной, казались замерзшими лужицами, и Сашу охватило ощущение полной нереальности происходящего, словно он вступил в другое время года.
Ягупов подошел к окну и, прикрыв свечку рукой, будто опасаясь, что за этим робким огоньком кто-то наблюдает из сада, сказал шепотом:
– В Петербурге поговаривают, что тебе надо передать кой-чего в крепость Бестужевой.
– Что значит «поговаривают»? – испугался Саша.
– А то, что я тебе могу в этом способствовать. Надьку мою из крепости выпустили три дня назад. Она-то и рассказала, что навещает заключенных в крепости некая монахиня, в прошлом княжна Прасковья Григорьевна Юсупова.
Имя это ничего не сказало Белову. И только много лет спустя, когда он стал завсегдатаем самых богатых салонов Петербурга, Парижа и Лондона и узнал историю княжны Юсуповой, он поблагодарил задним числом судьбу за то, что она так безошибочно и точно призвала на помощь эту замечательную и мужественную женщину.
Отец княжны Прасковьи, Григорий Дмитриевич Юсупов, в тридцатом году в царствование Анны Иоанновны умер с горя, когда его друзей отвезли на плаху. Прасковью Григорьевну ждала опала, и она решила волшебством разжалобить сердце государыни. Чары не подействовали, княжну за колдовство сослали в Тихвинский монастырь. Прасковья была строптива, в монастыре ругала государыню, жалела, что на престоле не Елизавета, поносила Бирона и попала по доносу служанки в Тайную канцелярию. Секли ее и кошками, и шелепами, сослали в Сибирь, в Введенский девичий монастырь, и насильно постригли. Но и там она была «бесчинна», как писали в доносах, монастырское платье сбросила, уставу обители не подчинялась и новым именем – Проклою – называться отказывалась. Опять секли, учили уму-разуму.
Когда на престол взошла Елизавета, Юсупова стала вольной монахиней, но не только не надела старого платья – светского, а сменила рясу и камилавку на куколь, добровольно став великосхимницей, чтобы хранить беззлобие и младенческую простоту.
Смысл своей жизни нашла сестра Прокла в помощи осужденным преступникам. Она не вникала, за что осужденный будет бит и пытан – за убийство ли, за кражу или за «поношение и укоризну русской нации». Она помнила боль в разодранной до костей спине, и все заключенные были в ее глазах не преступниками, а страдальцами. Государыня Елизавета сквозь пальцы смотрела на то, что Юсупова дни и ночи проводила в тюрьмах, считая княжну невменяемой, почти святой.
Но всего этого Белов не знал и, вспомнив предупреждения бдительного Лядащева, спросил:
– А ей можно верить?
– Если и ей верить нельзя, то само слово «вера» надо позабыть. Крест с тобой?
– Я цепочку к нему приделал. – Саша торопливо расстегнул камзол, снял с шеи крест. – Ума только не приложу, откуда вы узнали. Неужели Лядащев?
– Кто ж еще? – Ягупов вздохнул и, не глядя, засунул крест в карман кафтана.
– А как ваша сестра себя чувствует? – решился спросить Саша.
– Плохо она себя чувствует. Отвратительно. Ей в ссылку, а мужу, стало быть, деверю моему, – плеть и в солдаты. Такие, брат, дела…
– За что его?
– Знать бы, где падать, соломки бы постелил. Ну я пошел.
У выхода Елена Николаевна задержала Ягупова:
– Паша, что грустный такой? Побудь с нами…
– Леночка, душа моя, – Ягупов вдруг по-детски радостно улыбнулся, – служба… И потом, не могу я видеть, как все эти мухи, – он мотнул головой в сторону гостиной, – над тобой вьются. Коли останусь хоть на полчаса, непременно с кем-нибудь подерусь. Ты ж сама знаешь.
Елена Николаевна засмеялась:
– Но завтра непременно приходи. Непременно! Ждать тебя буду.
Ягупов вытаращил глаза, отчаянно закивал и, стукнувшись о притолоку головой, вышел.
Хмельная компания меж тем заскучала без хозяйки, и мужчины стали выходить в сени, наперебой предлагая пойти гулять. Геодезист с пехотинцем предлагали пойти в сад Итальянского дворца, расположенный рядом с усадьбой, но потом все решили, что самое лучшее – прогулка по воде.
– На Фонтанку, господа! – воскликнула прекрасная амазонка.
Откуда-то появился богато украшенный рябик, на сиденьях под навесом лежали бархатные подушки и гитара.
– За весла, господа офицеры…
Подвыпивший немец, садясь в рябик, чуть не упал в воду и, словно застыдившись, шепнул в ухо пехотинцу:
– Я совсем трезвый. У немцев крепкий голова!
– In einen Narrenschadel findet selbst der Karsch keinen Eingang[21], – бросил вдруг не сказавший ему за весь вечер ни слова пехотинец.
Немец беззлобно захохотал:
– А я и не знал эту пословицу. Как там… Повтори.
– Ну тебя к черту, – проворчал пехотинец.
– Я не глупый, я веселый… – убеждал немец, прижимая руки к груди.
– Белов, ты с нами? – крикнул Бекетов.
Елена Николаевна не дала Саше ответить.
– Конечно с нами. Он мой паж! – И шепнула юноше в ухо: – У вас все уладилось?
Рябик неслышно плыл по воде. Елена Николаевна пела. Газовый шарфик трепетал на ветру, как вымпел.
«А жить-то хорошо, – думал Саша. – Прав Лукьян Петрович, ушли заботы этого дня, пришли новые. Может, Никита приехал, надо бы наведаться по адресу. Никита должен знать, где Алешка. Никита всегда узнает такие вещи раньше меня. И не думать сейчас о Лестоке, о Котове… Ах, как поет эта амазонка! Анастасия, сердце мое, прости, что мне хорошо. Я просто поверил, что мы встретимся…»
В этот поздний час Лядащев сидел в своей комнате, на столе горело пять свечей, перед ним лежал уже знакомый нам список.
– Боляре на Чер… Чер… черт бы вас, – шептал Лядащев. – Черевенские – захудалый дворянский род. Это не то… Чернышевы – этих много, здесь тебе и графы, и князья… Черкасские – этих тоже пруд пруди…
Он оттолкнул от себя лист бумаги. «А что он мне может сообщить – этот Котов? Разве что бестужевские бумаги передал ему брат, а этот неведомый „Чер…ский“ их похитил и Котова заодно прихватил… Нет, не то… Ты болван, Василий Лядащев! Думай же… О чем? Скажем, о Сашиной поездке с Бергером. Может, он мне не все сказал? В глупую голову и хмель не лезет. Во всяком случае, глаз с этого прыткого юноши спускать нельзя. Слишком он часто и неожиданно возникает в горячих местах…»
4
Карета свернула на Большую Введенскую улицу. Над черепичной крышей старого гостиного двора, как и прежде, кружились голуби, в лавках суетился народ, шла бойкая торговля суконными и сурожскими тканями, золотом, серебром, книгами… Когда-то здесь мать купила ему «Историю войн Навуходоносора». Книга была так велика, что он смог пронести ее сам только десять шагов. «Отдай Гавриле, милый, – со смехом сказала тогда мать. – Эта книга еще тяжела для тебя». – «Мы понесем ее вместе», – ответил Никита, не выпуская из рук драгоценную книгу. Так они и шли до самого дома, неся «Историю войн», как тяжелый сундук.
Собор… Церковная ограда скрылась за кустами сирени, и можно было только угадать, где находится тот лаз – овальная дыра в чугунной решетке, – через которую он мальчишкой пробирался на берег Невы, чтобы издали наблюдать за каменными бастионами и куртинами Петропавловской крепости.
Зеленый приземистый дом священника, сад, дальше полицейская будка у фонарного столба, поворот… и он увидел родительский дом.
Въезжающую карету заметил кто-то из дворни, запричитали, заохали голоса, и на крыльцо проворно вышел дворецкий Лука.
– С приездом, батюшка князь. – И глубокий поклон в землю.
– Все ли в добром здравии? – Никите хотелось расцеловать старого дворецкого.
Лука еще раз поклонился и, ничего не ответив, прошел в дом. Дворня кинулась разгружать карету. Гаврила засуетился:
– Тихо, тихо! Здесь стекло. Здесь реторты, здесь… Да не рви веревки-то! Осторожно развязывай! Это ко мне. Это к барину. Это ко мне… это тоже мое…
– Лука, где отец? Почему он меня не встречает?
– Уведомление их сиятельству о вашем приезде уже послано.
– А где Надежда Даниловна?
Лука строго посмотрел на Никиту и сказал торжественно:
– Их сиятельства князь с княгиней сменили место жительства и обретаются теперь в новом дому на Невской першпективе. Мне велено передать, что дом этот – ваша собственность.
– Вот как? – Никита с недоумением осмотрелся, словно увидел впервые эту гостиную. Она сияла чистотой, нигде ни пылинки. Начищенные подсвечники пускали солнечных зайчиков на стены.
Мебель, знакомая с детства: круглый, инкрустированный медью столик на точеных ножках, резные голландские стулья, горка с серебряной посудой.
Радоваться или печалиться такому подарку? Отец позаботился, чтобы он ни в чем не чувствовал стеснения. Своей щедростью он как бы говорил – ты вырос, ты имеешь право на самостоятельность, но за этими словами слышались другие – ты должен быть самостоятельным, живи один, ты сам по себе, у меня теперь другая семья…
К гостиной примыкала библиотека. Тисненые узоры на корешках книг образовали сплошной золотой ковер – до потолка, до неба. Отец не только оставил ему свою библиотеку, он купил массу новых изданий. Книги со всего света: Париж, Гамбург, Лондон… Спасибо, отец.
Никита поднялся на второй этаж. Спальня, туалетная, маленькая гостиная. Как напоминание, как вздох – вышивки матери на стене, а под ними крашеный синий ларец с игрушками: серый в яблоках конь с выдранным хвостом, пиратская галера, отец привез ее из Дрездена на Рождество.
– Кушать подано, – раздался внизу голос Луки.
Стол был накрыт в библиотеке. Старый дворецкий сам прислуживал за обедом. На секунду показался озабоченный Гаврила.
– Банку со спиртом разбили, Никита Григорьевич. Всю дорогу везли в сохранности, а при разгрузке разбили. И надумали, шельмы, полакомиться остатками. Ванька Косой себе рот до уха располосовал. Швы надо наложить, а у него на щеке пустулы[22]. Запустили вы дворню, Лука Аверьянович. Рожи у всех немытые, у Саньки-казачка трахома…
– Иди, Гаврила, иди, – сказал Лука строго. – Самое время князю про болячки дворни слушать. Распустил тебя Никита Григорьевич по доброте своей.
Гаврила насупился и вышел, но скоро вернулся, держа в руке письмо.
– От их сиятельства. – И он с улыбкой протянул письмо барину.
Никита сидел, держа бокал в протянутой руке, а Лука стоял рядом и тонкой струйкой наливал в этот бокал токайское, но это не помешало старому слуге вырвать из рук Гаврилы письмо: «Так ли подают?» Он поставил бутылку на стол, распечатал конверт, положил письмо на поднос и протянул с поклоном.
Никита рассмеялся, одним глотком ополовинил бокал и начал читать. «Любимый друг мой, дорогой сын Никита Григорьевич! Зело сожалею, что встреча наша с тобой омрачена столь роковым событием. Тошно и скучно мне, друг мой! Уповаю только на Бога, в нем ищу силы. С Надеждой Даниловной, маменькой твоей, от великой печали приключилась болезнь. Врач Круз велел ей поболее шевелиться, но она из дому не выходит, а проводит свое время в слезах и молитвах. Приезжай к нам завтра поутру. Любящий родитель твой…»
– Лука! О каких роковых событиях пишет мне батюшка? – вскрикнул Никита.
– Прошу прощения, Никита Григорьевич, что не уведомил сразу. Язык не повернулся убить вашу радость. Беда у нас… Братец ваш, Константин Григорьевич, десять дней назад скончаться изволили.
Пальцы Никиты, беспечно державшие бокал, свело судорогой, тонкое стекло лопнуло, и вино, мешаясь с кровью, потекло по манжету рубашки.
Гаврила быстро схватил одной рукой барина за запястье, а другой нырнул в карман его камзола, куда сам всегда клал платок.
– Mors omnibus communis[23], – сказал он с чудовищным акцентом и плотно обернул платком порезанную руку. – Омнибус, голубчик мой, коммунис. Что ж, вы так-то… А?
Лука аккуратно собирал с полу осколки бокала.
Ночь Никита провел без сна в состоянии того странного оцепенения, когда становятся неподвластными мысли, поведение и чувства. По слабому шороху за дверью он угадывал где-то рядом Гаврилу. «Тоже не спит, – думал он с благодарностью. – Только бы не лез с успокоительными каплями». Шорох затихал, и Никита тут же забывал про Гаврилу и опять возвращался к мыслям об отце. Он пытался представить себе его лицо и не мог, искал в лексиконе памяти слова сочувствия, утешения и не находил. Потом вдруг с удивлением обнаружил, что уже не лежит, а ходит по комнате, старательно измеряя шагами периметр спальни, и считает вслух: «…Десять, одиннадцать, двенадцать…»
«Тьфу, напасть… О чем я думал? О людях…» Мысль о людях, не каких-то конкретных, знакомых людях, а о людях вообще, принесла неожиданное облегчение. Он представил себе огромный мир, населенный одинокими, несчастными, обездоленными… Но если он, тоже одинокий и несчастный, так понимает всех и сочувствует им, то, значит, есть кто-то в мире, который тоже жалеет его в эту минуту. И еще вспоминалась Анна Гавриловна и бумаги, отданные Алешкой. Завтра он поговорит об этом с отцом. Если посмеет…
Он вспомнил, как в детстве, наслушавшись рассказов про грешников в аду и жалея их всем сердцем, сказал матери: «Когда я вырасту, стану Христом. Я возьму на себя все грехи, и люди попадут в рай». – «Милый, так нельзя говорить, – ответила мать с улыбкой, – это большой грех. Человек должен отвечать только за себя. Нельзя посягать на Боговы дела…»
«Господи, научи… Разве я мог предположить, что тревоги мои и беды разрешатся именно так? Я надеялся, что все как-нибудь устроится. Но не такой же ценой, Господи… Неужели я так закоснел в своем эгоизме и черствости, что даже невинная детская душа…» Никита поймал себя на мысли, что обращается не к Богу, а к покойной матери и даже слышит ее слова: «Милый, грешно так думать. Ты пожалей брата, пожалей…»
На минуту в памяти всплыло лицо Алексея, и он обратился к нему, словно Алешка не был игрой воображения, а стоял рядом.
– Неужели я живу только для того, чтобы вымолить любовь отца и стать законным князем Оленевым? – спросил он его. Алексей страдальчески сморщился и исчез. – Да что я в самом деле? Нельзя просто так вымолить чью-то любовь. Человеком надо быть хорошим, вот что…
На туалетном столике стоял кувшин с водой, приготовленный Гаврилой для утреннего обтирания. Никита припал к кувшину и пил до тех пор, пока не почувствовал, как в животе булькает вода. Тогда он лег, закрыл глаза: «Вот и легче стало… Надо просто жить… по возможности быть добрым, честным…»
Он представил себе, что уже написал замечательные трактаты, нарисовал полные глубокого смысла и красоты картины, или нет… он врач и может излечить любую хворь. Он спасет от смерти человека, над которым священник читает уже глухую исповедь[24]. Кто этот человек? Нет, не отец, Боже, избавь… Он вдруг представил себя на смертном одре, и это не было страшно, потому что священником был тоже он сам, и врач, неслышно входящий в комнату… тоже он, Никита Оленев. Он был един в трех лицах – умирал, исповедовал и лечил. И это было прекрасно.
Никита заснул только на мгновенье, так ему показалось, и вот уже утро, и карета везет его в родительский дом на Невской першпективе.
Он пытался вспомнить, что́ очень важное и большое открылось ему ночью, и не мог, осталась только память короткого и мучительного счастья, которого он стыдился теперь.
Встреча с отцом произошла куда сдержаннее, чем ожидал Никита.
– Здравствуй, друг мой. – Князь без парика, в траурном платье казался ниже ростом, он стоял, опираясь пальцами рук о стол, и строго смотрел на сына.
Никита хотел броситься ему на шею, но оробел вдруг, ноги стали чугунными.
– Батюшка, примите мои… – Слезы заполнили глаза, и он, низко склонившись, поцеловал теплую, набрякшую венами руку.
На минуту лицо князя смягчилось, жалкая улыбка смяла губы, уголки глаз опустились, как на трагической маске, но когда Никита поднял голову, перед ним стоял сдержанный, подтянутый человек, любимый и недосягаемый. «Отец, как же тебе больно…»
– Как успехи в школе?
– Хорошо, батюшка… – Никита слышал свой голос издалека, словно из соседней комнаты.
– Пойдем, Надежда Даниловна хочет тебя видеть, – и вздохнул, – такие у нас дела…
На лестнице, рассеянно сунув руку в карман, Никита наткнулся на пакет, тот, что отдал ему Алешка: «Это дело неотлагательное! Как только увидишь князя – сразу скажи. Понял?»
«Прости, Алешка… Погодят бумаги эти пару часов… Ну, не имею права говорить сейчас об этом с отцом…»
Окна спальни были плотно закрыты войлоком, иконостас пылал свечами, пахло лампадным маслом и валерьяной. Черный креп, закрывающий зеркало, взметнулся при их появлении, и по блестящей поверхности пробежали тени, словно гримаса сморщила чье-то изображение. Надежда Даниловна в домашнем платье сидела боком на большой с балдахином кровати.