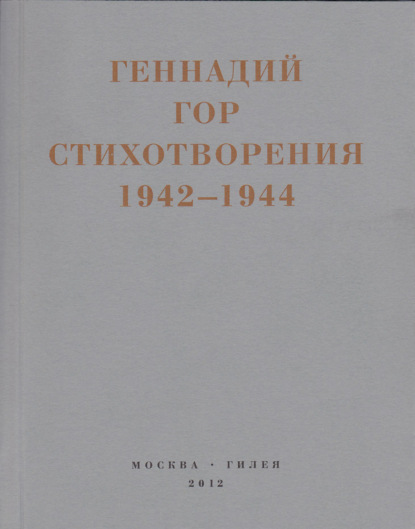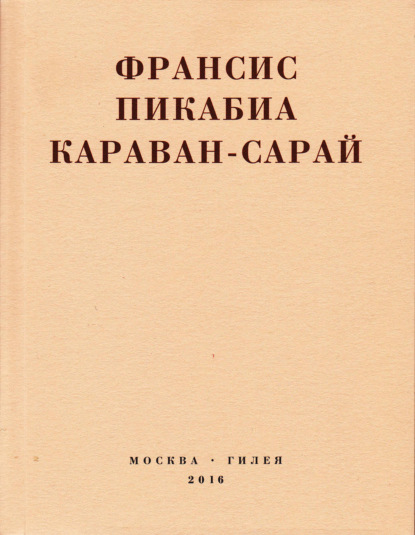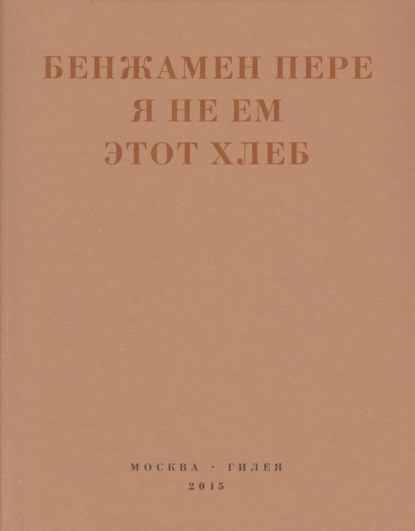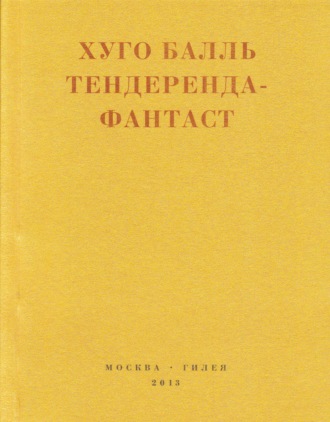
Полная версия
Тендеренда-фантаст

Хуго Балль
Тендеренда-фантаст

Хуго Балль. 1927 год
© Wallstein Verlag, Göttingen, 2011
© Книгоиздательство «Гилея», 2013
I. Взлёт пророка[2]
Однажды обнаруживаешь себя в суматохе воображаемого города. Тут ожидают пришествия нового Бога. Доннеркопф (который больше нигде в романе не появится) перебрался на жительство на башню и распространяет оттуда всевозможные бюллетени – якобы о текущем положении дел. Начинается тёплый вечер. Выступление шарлатана, который возвещает на ярмарочной площади вознесение. Для этого он выдумал собственную теорию, которую пространно излагает. Однако вознестись ему не удаётся из-за скепсиса публики. И какие последствия это имело.
В тот день Доннеркопфу не дали присутствовать на торжественном акте. И вот, он сидел перед атлантами и людьми, собравшимися в кружок, и возвещал премудрость высших сфер. Он свешивал с башни длинные свитки папируса, изрисованные значками и животными, и тем самым предостерегал народ, стоявший кучками, от крикливых стай ангелов, которые в ярости кружили вокруг башни. А кто-то в этот день носил по городу на длинном шесте табличку, на которой было начертано:
Талифа куми, девица, тебе говорю, встань[3]Это ты, ты ею будешь.Дочь бедноты, мать ликования.Висельники и ссыльные,Арестанты и оступившиесяВзывают к тебе.Освободи, благослови,о неведомая,Прииди!К пришествию нового божества город готовился постом и слабительным, и уже находились люди, желающие толпой идти ему навстречу. Высказывалось предостережение, гласившее, что ежели кто будет осматривать колёса с колоколами, закреплёнными на окружности, или войдёт в башню, сложенную из чего попало, тот, будучи схвачен без специального разрешения, на месте живьём подлежит смерти. Была свежевыдута причинная связь и выставлена у всех на виду на пожирание священными пауками. С трещотками и волынками двигались, заламывая руки, крестные ходы и чайные процессии людей искусства и науки. Но в воздухе носились водяные знаки, и изо всех дыр торчали стеклянные шприцы.
И вот, над рыночной площадью, словно так и надо, шествовал сизоликий пророк, обращаясь к смеющимся домам, звёздам, луне и народу и говоря:
«Лимонно-жёлтое стоит небо. Лимонно-жёлтые стоят поля души´. Мы склонили головы к земле и широко раскрыли уши. Мы растянули парусами фартуки и рясы, и спина из взрывного фарфора проглядывает там и сям.
Истинно говорю вам: моё смирение обращено не к вам, а только к БОГУ. Всякий взыскует счастья, до которого он не дорос. Ни у кого нет столько врагов, сколько он мог бы иметь. Человек – несбыточная фантазия, чудо, божественная случайность, полная коварства и двоехитрости.
Однажды я сам неузнаваемо погряз в любопытстве и подозрительности. И вот, я повернул назад и вошёл. И вот, тут горели свечи, капая мне на череп. Но моим первым познанием было вот что: малое и великое – это безрассудство. Великое и малое – это релятивизм. И вот, мой палец высунулся наружу и обжёгся о солнце. И вот, стрелка башенных часов процарапала почву улицы. Но вы полагаете, что чувствуете, и вас самих расчуют».
Он сделал паузу, чтобы прочистить себе ухо, и бросил взгляд на пятый этаж четвёртого здания. Там из окна высовывалась розово-шёлковая ножка Люнетты. На ней сидели два крылатых существа, сосущие кровь.
И пророк продолжил:
«Истинно, ни одна вещь не такова, какой выглядит. Она одержима духом жизни и кобольдом, который замирает, пока на него смотрят. Но стоит его разоблачить, как он преображается и становится страшен. Я годами носил тяготу вещей, которые хотели своего освобождения. Пока я не увидел и не постиг их размера. Тут во мне взыграла страсть. Жизнь ужасна! Тогда я простёр руки – для защиты – и полетел, понёсся стрелой над крышами».
Как можно заметить, пророк, зачарованный музыкой собственных слов, не произнёс никаких неисполнимых обещаний. Шумно всплёскивая обеими ладонями, он поднялся, пролетел, словно на пробу, изрядный отрезок пути по вечернему небу, но потом заложил вираж и с несколькими подскоками приземлился.
Люди, по пояс высунувшиеся из окон со всех сторон ярмарочной площади, были напуганы, но в недоверчивой досаде мотали головой, поскольку это зрелище неприятно поразило их, размахивали что есть мочи солёными трубками и принесёнными бумажными фонариками, крича:
«Увеличительное стекло! Увеличительное стекло!»
Поскольку стало известно, что пророк в своих приёмах часто применял одно из таких стёкол, люди полагали, что всё происходящее – не более чем махинация пророка, который подобными инструментами маскирует свои уловки. Был также забавный эпизод, в котором одна любопытная женщина, которая слишком сильно размахивала древком флага, сорвалась и, подхваченная вечерним ветром, полетела над крышами в сторону востока. Далее: взлетал петух с растрёпанным серпом над веерами дам; это считалось знаком находчивого тщеславия.
Пророк, сокрушённый и обескураженный, и впрямь вынул из кармана увеличительное зеркало. Зеркало, кстати, размером с русские качели, какие можно увидеть на ярмарках. Чрезвычайно тонкой шлифовки стекло в серебряной оправе, изящно закреплённое на длинной деревянной ручке. Он поднял это зеркало над головой, приняв трагическую позу, внезапно дёрнулся вверх, разбив зеркало; осколки зазвенели, а он исчез, растаяв в жёлтом море вечера.
А осколки разбитого волшебного зеркала порезали дома, порезали людей, скот, танцовщиц на канате, жерла шахт и всех неверующих, так что число порезанных нарастает день ото дня.
II. Карусельная лошадка Йоханн
Дело было летом 1914 года. Фантастическая община поэтов почуяла неладное и приняла решение своевременно спасти их конька Йоханна. Как конёк поначалу упирается, а потом соглашается. Блуждания и препятствия под предводительством некоего Беньямина. В дальних странах им встречается вождь Зарево[4], который оказывается полицейским провокатором. С этим связано историологическое замечание о родах полицейской суки в Берлине.
«Известно одно, – говорил Беньямин[5]. – Интеллигенция – это дилетантизм. Интеллигенции больше не удастся одурачить нас. Они вглядываются внутрь, мы выглядываем наружу. Они – иезуиты выгоды. Такого интеллигента, как Савонарола, не бывает. Такой интеллигент, как Манассе, бывает. Ваша Библия – это свод гражданских законов».
«Ты прав, – сказал Йопп. – Интеллигенция подозрительна: сообразительность увядшего начальника рекламного отдела. Объединение аскетов «Уродливые ляжки» изобрело платонические идеи. “Вещь в себе” – в наши дни это средство для чистки обуви[6]. Мир обнаглел и полон эпилепсии».
«Довольно, – сказал Беньямин, – мне становится дурно, когда я слышу о “законах” или о “контрастах”, и об “итак”, и о “следовательно”. Почему зебу должен быть колибри? Я ненавижу сложение и подлость. Чайку, которая красуется на солнце своими раскачиваниями, следует оставить в покое и не говорить ей “итак”, она от этого страдает».
«Итак, – сказал Штизельхеер, – давайте укроем карусельную лошадку Йоханна[7] в безопасном месте и пропоём песню о чудесном».
«Не знаю, – сказал Беньямин. – Всё-таки лучше было бы обезопасить карусельную лошадку Йоханна. Налицо предзнаменования того, что предстоит худшее».
И действительно, налицо были признаки, что худшее предстояло. Была найдена голова, которая безудержно кричала: «Кровь! Кровь!», а её скулы поросли петрушкой. Термометры стояли полные крови, а разгибающие мышцы больше не действовали. В банкирских домах дисконтировали песню «Стража на Рейне»[8].
«Хорошо, хорошо, – сказал Штизельхеер, – давайте спасём карусельную лошадку Йоханна от опасности. Неизвестно, что может произойти».
На небесно-голубом гумне, с большими глазами, обливаясь потом, стояла карусельная лошадка Йоханн.
«Нет, нет, – сказал Йоханн. – Здесь я родился, здесь хочу и умереть».
Но это была неправда. Ибо мать Йоханна была родом из Дании, а отец был венгр. Однако всё же пришли к единодушию и в ту же ночь бежали.
«Тьфу, чёрт, – сказал Штизельхеер, – тут конец света. Тут стена. Дальше не пройти».
И в самом деле там была стена. Она отвесно возносилась к небу.
«Смешно, – сказал Йопп. – Мы потеряли связь. Пустились в ночь, забыв повесить на себя гири. Разумеется, мы теперь парим в воздухе».
«Ерунда, – сказал Штизельхеер. – Здесь воняет. Я дальше не пойду. Тут валяются рыбьи головы. Тут поработали химеры. Здесь доили гребные валы».
«Чёрт его знает, – сказал Рунцельман. – Мне тоже не по себе. Нам тут натянут на уши шарлатанские рубашки!» Он сильно затрясся.
«Прекратить! – приказал Беньямин. – Что здесь стоит? Вагончик для сбора пошлины? Зелёный и с зарешёченными окнами? Что это тут растёт? Агавы, веерообразные пальмы и тамаринды? Йопп, посмотри по книге знаков, что это может значить».
«Фатальное дело, – сказал Штизельхеер. – Вагончик для сбора пошлины среди агав. Уже подозрительно. Бог знает, куда мы попали».
«Вздор, – воскликнул Беньямин. – Не будь так темно, можно было бы точно разглядеть, что произошло. Шарлатанветеринар[9] направил нас по ложному пути».
«Факт тот, – сказал Йопп, – что мы стоим перед стеной. Дальше хода нет. Гундельфлек, зажги фонарь».
Гундельфлек порылся в кармане, но извлёк оттуда лишь мощную светло-голубую органную трубу. Он всегда носил её с собой.
«Подойдите ближе, господа, – внезапно раздался чей-то голос. – Вы заблудились. – То был вождь Зарево. – Чего вы плутаете в потёмках ночной порой? Да ещё в таком виде! Снимите целлулоидные носы! Разоблачитесь! Вас узнали! Что это за бунчуки вы таскаете с собой?»
«Это, с позволения сказать, колотушки, и колокольчики на палочке, и шутовские плётки».
«А что это за духовой инструмент?»
«Это нюренбергский рупор[10]».
«А это что за ватный тюфяк на верёвочке?»
«Это карусельная лошадка Йоханн, добротно запакованная в вату».
«Что за вздор. Зачем вам сдалась карусельная лошадка в ливийской пустыне? Откуда она у вас?»
«Это в некотором роде символ, господин Зарево. Если вы позволите. Ибо в нашем лице вы видите перед собой в стерильном виде клуб фантастов “Голубой тюльпан”»[11].
«Какие тут могут быть символы. Вы увели коня от военной службы. Как ваши фамилии?»
«Да он ужасный тип! – сказал Йопп. – Это же чистая робинзонада».
«Чепуха какая-то, – сказал Штизельхеер. – Он ведь фикция. Это всё нам устроил Беньямин. Он это выдумал, а мы должны страдать…»
«Глубокоуважаемый господин Зарево! Ваша смуглость, Ваше конфедерированное дитя-природство! Это нам не импонирует. А ещё Ваша заимствованная киношность! Однако позвольте слово для объяснения: мы фантасты. Мы больше не верим в интеллигенцию. Мы пустились в путь, чтобы спасти это животное, глубоко почитаемое нами, от подонков».
«Я могу вас понять, – сказал Зарево. – Но я не в состоянии вам помочь. Поднимитесь в вагончик для сбора пошлины. И конь, который с вами, тоже пусть поднимется. Шагом марш, никаких промедлений. Входите!»
Сука Розалия ощенилась и лежала в тяжёлом состоянии. На белый свет глядели пятеро новорождённых полицейских ищеек. В это же самое время в канале Шпрее в Берлине поймали китайского спрута. Животное притащили на полицейский пост.
III. Гибель Пляши[12]
Его имя говорит само за себя, Пляши[13] – это существо, которое пляшет и любит сенсации. Он – один из тех отчаянных типов, лишённых душевной стойкости, которые не в силах не поддаться даже тишайшему впечатлению. Отсюда и его трагический конец. Поэт подчеркнул это с особым нажимом. Мы видим, как Пляши шаг за шагом всё больше впадает в одержимость, а затем в глубокую апатию. Пока он, в конце концов, после бесплодных попыток создать себе алиби, не погружается в тот религиозно окрашенный паралич, который – будучи связан с эксцессами – окончательно удостоверяет его полный физический и моральный крах.
Тут Пляши вдруг ощутил давление в висках. Производительные токи, которые согревали и окутывали его тело, отмерли и, подобно длинным шафрановым обоям, свисали с его тела. Ветер сгибал его ладони и ступни. Его спина, скрипучая винтовая резьба, взвивалась в виде спирали к небу.
Пляши, коварный, схватил камень, вопиявший из угла здания, и, как придётся, принял защитную стойку. Голубые подмастерья набросились на него. Небо светло рушилось. Вентиляционная шахта пролегала поперёк него. По небу улетала прочь вереница окрылённых рожениц.
Газовые сооружения, пивоварни и купола ратуш расшатались и гудели клёкотом литавр. Демоны, ярко оперённые, плюхались на его мозг, трепали его и щипали. Над ярмарочной площадью, утонувшей в звёздах, торчал чудовищным серпом позеленевший остов корабля, стоявший вертикально на своём носу.
Пляши зарылся указательными пальцами в обе ушные раковины и выгреб оттуда последние жалкие остатки солнца, заползшие туда. Воссиял апокалипсический блеск. Голубые подмастерья дули в раструбы труб. Поднявшись на осветительные балюстрады, они соскользнули в сияние.
Пляши ощутил дурноту. Его тошнило на ложного бога. Он бежал с воздетыми вверх руками, упал и ударился лицом. Чей-то голос крикнул за его спиной. Он закрыл глаза и почувствовал, как в три могучих прыжка пронёсся над городом. Отсасывающие трубы выхлёбывали силу мистических сосудов.
Пляши опустился на колени, одетый в салатовую ризу, и оскалил зубы в сторону неба. Фасады домов – ряды могил – громоздились друг на друга. Медные города на краю луны. Казематы, качающиеся в ночи на хвосте кометы. Налипшая культура отслаивается и рвётся в клочья. Пляши ярится, охваченный приступом пляски святого Витта. Раз-два, раз-два: средство для умерщвления плоти. «Панкатолицизм», – кричал он в своём ослеплении. Он учреждает генеральное консульство для публичных протестов и первым заявляет там протест. Он кинодраматично оглашает непреложные явления своих эксцессов и мономании сна наяву. Его завихряют в магнитной бутылке. Он горит в подземных трубах системы каналов. Красивый шрам украшает глаз Пляши белым глянцем.
В рубашке рисунком в зигзаг он балансирует на высотной эфирной башне. Он арендует большой подъём и грохочет в восхождении, проламываясь сквозь спицы воображаемых гигантских колёс. Ему грозят лица скорой расправы, подвижного скальпа, блеющего скепсиса. С разбитыми крыльями лёгкого он скачет из ладони кобольда.
Друзья покидают его. «Пляши, Пляши!» – каркает он с камина. Он вырывается из связи. Он влачится сегментом солнечного затмения над покосившимися куполами и башнями пьяных городов. Его, бессонного и уложенного в детскую коляску, везут по улицам. Его затмевают ландшафты румянца, печали, девственного блаженства.
Пляши путается в декадансе. Он депонирует обширные комплексы страха. В промежутках инструментирует затруднения, фальшивомонетчество душевных катаракт и сенсаций. Ночами он сворачивается в теле девицы. Кожа испуга встаёт у него дыбом за ушами. «Уж не думаете ли вы, бедолаги…» – и бьёт, с пеной у рта, синее облако на полу. Он выползает на солнце. Он хочет иметь переживание. Трава растёт неблагоприятно и гонит его назад во тьму. Занавески надуваются, и дом улетает. Это каталепсия разрушения. Языки в красном дожде стрел косо бьются о камни мостовой.
Гагни, свинцовая, должна расчесать ему пробор, чтобы он мог размышлять. Дагни, рыбная невеста, ухаживает за ним, посверкивая с правого боку госпожой Музыкон. Пляши убил вожака[14] книгой псалмов. Он изобрёл искусственно плавающий остров. Он торчит колом на крестных ходах и чтит Иисуса бродяжьего люда. Он держит фонарь на панихиде, справляя таким образом малую нужду: это уксуснокислый глинозём.
Но это не помогает ему. Он не дотягивает до этих турбуленций, детонаций и радиаций. «Количество – это всё, – кричит он. – Сифилис – тяжёлая венерическая болезнь». Он принимает ванну из соляной кислоты, чтобы избавиться от своего пернатого тела. Остаются: мозоль, золотые очки, искусственная челюсть и амулет. И душа: эллипс.
Пляши горько улыбается: «Оригинальность – это катар воздушных пузырей. Больно и неправдоподобно. Совершить убийство. Убийство – это нечто, чего нельзя не признать. Никогда и ни за что. Создавать хорошее настроение. Всегда любить несчастных. Уже Бог для нас лишь приложение. Это прочное основание». И он подул госпоже Музыкон в затылок. Тут она заклубилась.
И он написал своё завещание. Уриновыми чернилами. Других у него не было. Поскольку он сидел в тюрьме. Он проклял в нём: фантастов, Дагни, карусельную лошадку Йоханна, свою бедную мать и множество других людей. Потом он умер. На содовом бульоне вырос пальмовый лес. Лошадь перебирала ногами и приближалась. Над больницей реял траурный флаг.
IV. Багряные небеса
Картина ландшафта из верхних слоёв преисподней. Концерт ужасных шумов, которые ввергают в недоумение даже животный мир. Животные представлены частью как музыканты (так называемая кошачья музыка), частью в виде чучел или в качестве деталей, оживляющих пейзаж. Тётки из седьмого измерения непристойным образом участвуют в шабаше ведьм.
Багряные небеса, мимулли мамеи[15],Разрываются надвое по спазму желудка.Багряные небеса рушатся в озеро,Мимулли мамеи, и маются животом.Синие кошки, фофолли мамеи,Скребутся о краснозубую гофрированную жесть.О лалало, лалало, лалала!А тут ещё тётка мурлычет.Тётка-мурлыка вздымает из снегаСвои труляляшки-рубашки и юбки.О лалало, лалало, лалало!Как сказал козлоногий флейтист: «Всё равно».Воркующий голубь падает с крыши.Двойной Иоганн сигает за ним.О лалало и мамулли мамеи!На железных скрипках пиликали двое.Конь и осёл смотрят искоса наСнежного петуха, что кричит из глубин.Голубая труба лопнула разок.Тут сполз купол одиножды один.О лалало, лалало, лалало!Голова из стекла, а руки из соломы.О лалало, лалало, лалало!Ерунда на постном масле кричит караул.V. Сатанополис[16]
Мистический случай, который происходит в самом нижнем, чернильном аду. Тендеренда рассказывает историю перед собравшейся публикой привидений и покойников, сатанополитанских посвящённых и завсегдатаев. Считается, что ему знакомы персоны и место, он разбирается в подземной обстановке.
Один журналист сбежал. В неприметном сером облике он шпионил за злачными местами Сатанополиса. Было решено выступить против него войной. Собрался революционный трибунал. Пошли войной на него, который в сером неприметном облике резвился на полях блаженства Сатанополиса. Но не находили его. Он позволил себе всевозможные бесчинства, однако наслаждался в полном удовольствии и ел колкие головки чертополоха, который цвёл на полях Сатанополиса. Разыскали его дом. Он располагался на 26½ холме, где стоит жаровня Святой Троицы. С фонарями на палках окружили дом. Рога их месяца тускло освещали ночь. Все сбежались с птичьими клетками в руках.
«Хорошенькая же у них собачья колотушка», – сказал господин Шмидт господину Шульце. «Мудрёный выпад!» – сказал господин Майер господину Шмидту, сел на свою клячу, которая была его больным местом, и, раздосадованный, ускакал прочь.
Между тем тут стояли многие гильотинные фурии, вяжущие на спицах, и было решено брать журналиста штурмом. Дом, в котором он окопался, назывался лунным домом. Он забаррикадировал его матрацами из эфирных волн, а на крышу водрузил жаровню, так что находился под особой защитой неба. Питался он аиром, кефиром и сладостями. Также вокруг него были трупы покойников, которые в больших количествах проваливались сюда с земли через его трубу. Так что он вполне мог продержаться несколько недель. Поэтому он не особо беспокоился. Чувствовал себя прекрасно и для времяпрепровождения учил 27 различных способов сидеть и бродить привидением. Звали его Лилиенштайн[17].
Состоялось заседание в ратуше чёрта. Чёрт явился с ридикюлем и парижским поцелуем, наговорил грубостей и спел Риголетто. Ему наверх выкрикивали, что он напыщенный придурок и, мол, довольно шуточек. И совещались, нельзя ли дом, который оккупировал очкастый Лилиенштайн, испепелить посредством пляски или, может, подвергнуть его скармливанию блохам и клопам.
Чёрт на балконе стал вскидывать ноги и сказал: «Подбрюшье Марата закончилось в кинжале. У него перед домом матрацы из эфирных волн, и вокруг него возносятся башни лжи в синеве их фундамента. Он умастился трупным жиром и сделался нечувствительным. Двинемся ещё раз ордой людей – с барабаном на поясе у каждого. Может быть… это и удастся». Супруга чёрта была стройна, белокура и голуба. Она восседала на ослице и держалась на его стороне.
Тут все развернулись, зашагали назад и запели под барабаны. И они вернулись к лунному дому и увидели матрацы из эфирных волн и Лилиенштайна, который приближался при полной иллюминации. И дым его обеда поднимался из его трубы вверх.
И он прикрепил большой плакат. На нём было написано:
«Qui hic mixerit aut cacaritHabeat deos inferos et superos iratos»[18].(Но он это не сам придумал, а взял из Лютера).
И второй плакат. На нём было написано:
«Кто боится, тот надевает латы.Спасаться, так спасаться.Ибо живёт и пребудет Шеблимини[19].Sedet at dexteris meis[20]. Вот что».Я могу вам сказать, это их сильно обеспокоило. И они не знали, как бы им выманить Лилиенштайна. Однако они набрели на мысль: стали кидать через дом Лилиенштайна собачью траву и мёд. И пришлось ему выйти. И они погнались за ним.
Он бежал прочь, спотыкаясь о спальные тележки, которые стояли на дороге – из-за сонной болезни. Он бежал прочь, спотыкаясь о ноги бензина[21], который сидел на углу и тёр себе желудок. Прочь через будку богини-охранительницы абортов, которая, извергая детей на длинной верёвке, заставляет плясать 72 звезды добра и 36 звёзд зла. И они гнались за ним.
Апоплексия валяется в небесно-голубых пеленах. Ползут улитки, жаждущие синего. Кто видел этот фаллос, тот знает и все остальные. Он миновал каракатицу, которая учит греческую грамматику и ездит на велосипеде. Мимо башен с лампами и доменных печей, в которых ночами пылают трупы убитых солдат. И он убежал.
В огороде чёрта читали вслух манифест. Объявлялось вознаграждение в 6000 франков каждому, кто сообщит достоверные сведения о пребывании попавшего в Cатанополис журналиста Лилиенштайна или приведёт данные, которые помогут выйти на след изверга. Это зачитывалось под звуки трубного хора. Но тщетно.
Его уже забыли и шли своим путём, а тут вдруг обнаружили его на дорогах Италии. Там совершают прогулки на небесно-голубых лошадках, а дамы носят зонтики от солнца на длинных ручках, ибо жарко.
На зонтике одной дамы его и заметили. Он свил там себе гнездо и высиживал яйца. Он скалил зубы и верещал пронзительным тоном: «Циррициттиг-цирритиг»[22]. Но это ему не помогло. Даму, на зонтике которой он фланировал, рвали туда и сюда. Её ругали, оплёвывали и обвиняли. Ей дали пинка под зад, потому что считали её провокаторшей. Тут он выпал из гнезда, а вместе с ним его яйца, и поднялся вой.
Но с него сорвали только его бумажный костюм. Сам он сбежал и ретировался на стропила здания вокзала, наверх, где скапливается дым. Там он был у всех на виду, долго ему там было не продержаться.
В действительности он спустился вниз через пять дней и был приведён в суд. Жалок был его вид. Лицо закоптилось от угольной сажи, а руки были перепачканы чернилами. В кармане брюк он носил револьвер. В нагрудном кармане рядом с бумажником – справочник по криминальной психологии Людвига Рубинера[23]. Он всё ещё скалил зубы «цирритиг-циррицитиг». Тут выползли из своих нор каракатицы и смеялись. Тут явились закопадоры, и им было на него начхать. Тут налетели волшебные драконы и морские коньки и кружили над его головой.
И над ним учинили судебный процесс: обвинили в том, что он в сером облике сокрушил поля блаженства музыкантов. Путём всяческих безобразий привлёк внимание. Но чёрт выступил в качестве его адвоката и защищал его. «Злословие и сонливость, – сказал чёрт, – чего вы от него хотите? Видите, се человек. Вы хотите, чтобы я умыл руки, или он должен принять муки?» И подскочили бедные и попрошайки, крича: «Господь, помоги нам, у нас лихорадка». Но он отпихнул (оттолкнул, отодвинул) их ладонью и сказал: «С этим, пожалуйста, после». И процесс перенесли.
Но на следующий день они снова пришли, много народа, принесли бритву и кричали: «Выдай его. Он возводил хулу на Бога и Чёрта. Он журналист. Он запятнал наш лунный дом и свил себе гнездо на зонтике дамы».
И чёрт сказал Лилиенштайну: «Защищайся». И господин из публики крикнул возбуждённым тоном: «Этот господин не имеет ничего общего с акцией[24]».