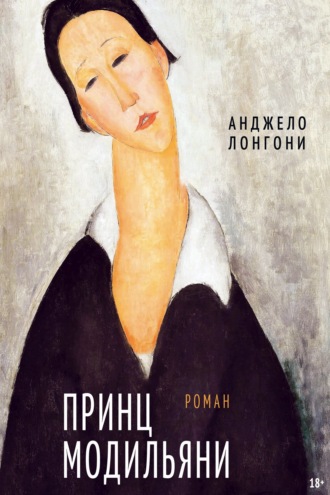
Полная версия
Принц Модильяни
Маргерите хочется выцарапать мне глаза.
– Значит, настоящую жизнь можно узнать в таких местах? Слова великого человека, который познал жизнь! Ты должен быть благодарен, что вообще жив. Многие умерли из-за подобных болезней.
– Спасибо, что напомнила, сестренка. Но, знаешь, есть много разных способов умереть. Один из них – не понимать мир. Ты думаешь, что проститутки хуже нас?
– Разумеется.
– А вот и нет. Они знают о мире гораздо больше тебя и способны разговаривать без криков и заносчивости.
– Конечно, крики они берегут для клиентов.
– По крайней мере, они не такие непреклонные, как ты.
Маргерита пытается дать мне пощечину, но я успеваю сделать шаг назад и увильнуть.
– То, что ты болен, не дает тебе право говорить все, что ты думаешь!
– Дедо, тут Маргерита права.
– Ты позоришь наш дом!
– Маргерита, не преувеличивай… – Мама пытается смягчить, но сестра продолжает:
– У тебя что, нет чувства стыда?
– Нет.
– Хватит ругаться! Разве нельзя разговаривать спокойно?
– С этим идиотом, у которого еще молоко на губах не обсохло?
Мама не слушает ее и терпеливо обращается ко мне:
– Дедо, ты должен пообещать, что больше не будешь курить.
Маргерита снова взрывается:
– Хорошо, я поняла: проблема в курении! Испорченная репутация не считается.
– Какая испорченная репутация?
– Тебя все видели! Ты даже не можешь вести себя осторожно.
– Ах, теперь проблема в осторожности? Делать, но чтоб никто не видел?
– Да, так тоже можно.
– Лицемерка! Все были в борделе. Кто там не был, тот ничего не знает о жизни.
– Ты пару раз спустил штаны – и уже знаешь, как устроен мир?
– Можно подумать, что ты знаешь, – выглядывая из-под маминой юбки и желая, чтоб все тебя называли синьориной.
Маргерита снова подходит ко мне, чтобы ударить. На этот раз она предвидит мой маневр, и я получаю по полной. В ответ я начинаю смеяться.
– Знаешь, синьоринами называют и проституток, а не только незамужних девушек.
Она впечатывает мне еще одну пощечину, но я даже не чувствую боли. Мама встает с кресла и вмешивается:
– Вы меня утомили. Я не хочу присутствовать при этих сценах, понятно? Дедо, мне неинтересно, что думают люди. Я знаю, что мужчины посещают эти места с той же легкостью, с которой идут в церковь или синагогу. По какой-то причине, которую я никогда не смогу понять, этих синьорин…
Я не даю ей закончить: это слишком заманчивый момент. Я поворачиваюсь к Маргерите:
– Видишь? Даже мама их называет синьоринами.
Маргерита не успевает ответить. Мама продолжает:
– Не знаю, почему их посещают, но они всех привлекают, и я не хочу знать, что они делают. Меня пугает, Дедо, что в таких местах можно заболеть. А неоправданных рисков необходимо избегать. И тебе не следует курить. У тебя слишком слабые легкие. Ты не такой, как твой друг. Некоторые вещи ты не можешь себе позволить. Уверена, что ты еще и пил.
– Нет.
– Не лги.
– Бокал вина.
– Тебе нельзя даже бокал вина, ты должен это понять. И я хочу кое-что сказать по поводу нравственности.
– Ну наконец-то! – Маргерита ликует.
– Я знаю, что в такие места ходят все мужчины, и не исключаю, что твой отец делает то же самое на Сардинии.
– Мама!
– Маргерита, не перебивай меня! Самое страшное – эти девушки добрые и любезные с клиентами, потому что обязаны такими быть. Проституток используют, и если б они могли, то не занимались бы этим. Ты слишком образованный, чтобы не замечать социальную несправедливость. Знаешь, что говорит Эмануэле? Что буржуа используют женщин пролетариата в том числе и для того, чтобы они раздвигали ноги.
– Женщине платят, как платят рабочему. Понимаешь? – Я не могу упустить шанс уколоть Маргериту.
– Все мужчины, которые посещают такие места, – невозмутимо продолжает мама, – делают вид, что этого не знают, а потом, за пределами борделя, презирают этих женщин, и чем больше их презирают – тем с большей легкостью их посещают. Никто не должен покупать тело. Я знаю, ты молодой и следуешь своим инстинктам. Сладострастие препятствует размышлениям, но сейчас самое время задуматься об этом. Тебе все понятно?
– Да, мама.
– Ты должен позаботиться о своем теле, оно у тебя одно и уже многое испытало. Пообещай, что будешь держаться подальше от таких мест.
– Обещаю.
Безмятежность
Пока я слушаю чужие разговоры, молоденькая Виви расстегивает мне ширинку. Я чувствую, как ее легкая, изящная рука плавно двигается и ласкает меня через трусы.
Я разглядываю ее зеленые глаза и ее белую кожу, которая кажется ненастоящей, лунной из-за бледности.
Она такая легкая, нежная, ласковая… Сложно поверить, что ее энтузиазм основан исключительно на строгих инструкциях хозяйки. Ее каштановые волосы спадают мне на плечо, выражение ее лица – мечтательное и романтичное. На ней кружевная комбинация цвета слоновой кости, она без бюстгальтера и без трусиков. Одна бретелька упала с плеча, обнажая безупречную грудь – чуть большего размера, чем можно было бы представить, исходя из ее худощавого телосложения.
Два прошлых раза я платил за Оскара, а сегодня решил заплатить он – и привел меня в особенный, очень элегантный бордель. Красный бархат, портьеры цвета охры, столы из ценных пород дерева, стулья с мягкими сиденьями, дорогие предметы интерьера… Тут есть даже небольшой бар, откуда девушки или мадам могут принести напитки. Неподалеку от меня Оскар что-то шепчет на ухо блондинке с голубыми глазами и менее романтичным выражением лица, чем у моей Виви.
Элегантный мужчина лет пятидесяти развлекает нас игрой на фортепиано. В его репертуаре – ноктюрны Шопена, «Лунная соната» Бетховена, прелюдии Рахманинова и Баха. Он настолько привык играть каждый вечер одно и то же, что может спокойно разговаривать с нами, пока играет.
– А ты точно достиг того возраста, чтобы находиться тут?
Оскар перестает шептать своей девушке на ухо и обращается к пианисту тоном, не допускающим возражений:
– Он со мной, я ручаюсь за него. Это мой кузен; он кажется юным, но это не так.
Тот улыбается и обращается к Виви:
– А ты что скажешь, Виви? Как он? Юнец?
Виви поднимает взгляд на пианиста, любезно и лукаво улыбается.
– Я бы так не сказала.
Оскар разражается смехом.
– Вот видите? Я же говорил.
Его блондинка говорит мне с ласковой улыбкой:
– Синьор Манфредо обязан осведомляться. Знаешь, он это со всеми делает, так что не обижайся.
– Я не обижаюсь.
– А вообще заметно, что у тебя озорной взгляд; ты точно не ребенок.
Виви меланхолично улыбается, шевеля рукой в моих штанах.
Манфредо смотрит на меня серьезно.
– Если придет проверка, это будет крайне нежелательно. Штрафы очень высокие. – Манфредо обращается к блондинке Оскара: – Верно, Болоньезе?
– Верно.
– Болоньезе? – задаю я Манфредо наивный вопрос.
– Это ее творческий псевдоним.
– Ах, а то я подумал, что вы называете ее по фамилии.
Блондинка заливается смехом на пару с Оскаром. Манфредо смотрит на меня с подозрением.
– Эй, парень, тебе точно есть восемнадцать?
– А что?
– «Болоньезе» называют тех, кто обладает высшим мастерством.
– Ах да! – Я притворяюсь, что понял.
Болоньезе приходит мне на помощь. Она смотрит мне прямо в глаза, открывает рот и начинает быстро вращать языком, имитируя причмокивание и засасывание. Теперь я действительно понял.
– Это мастерство родом из Болоньи, как и тортеллини[3].
Рядом с баром находится мадам Жюли, на вид ей около семидесяти. Она безучастно наблюдает за происходящим, поглядывает на часы с кукушкой, висящие на стене, и порой поторапливает гостей, приглашая подняться в комнаты.
В действительности же все знают, что это предвкушение, праздность, алкоголь, сигары и беседы – самая сладкая часть борделя, его суть. Я наслаждаюсь этим чудесным моментом, в то время как прекрасная Виви медленно и нежно ласкает меня между ног.
Мысль о ранней смерти побуждает меня отчаянно прожигать свою жизнь. Я жаден до всего, потому что боюсь, что мне не хватит времени насытиться вдоволь. Я хочу познавать, пробовать, экспериментировать. Это касается и живописи, и разных удовольствий. Я чувствую необходимость ускользнуть от смерти, пусть даже таким «безнравственным» способом. Бордель дает мне иллюзию, что я нахожусь в обществе ангелов, похожих на меня: падших, больных, слабых.
Я не знаю, действительно ли красавица Виви рада быть в моей компании. Возможно, ею просто движет инстинкт самосохранения. Мной же движет убеждение, что у меня нет времени. Наше отчаяние похоже.
Эти девушки – затворницы, им запрещено выходить за пределы борделя. Они живут вместе, разделяют обед, вместе спят и, может быть, даже вместе молятся.
В этот момент, глядя на клиентов и девушек, я не вижу ничего развратного. Никто из клиентов не торопится подняться в комнату и освободиться от своих жидкостей – они лишь хотят питать иллюзии, что есть молодая девушка, которой они нравятся.
Мужчина неподалеку курит сигару, наполняя пространство терпким и приятным ароматом. Ему около сорока, у него мягкие манеры, он очень элегантен. Его девушка массирует ему плечи. У него отсутствующее выражение лица, он больше сосредоточен на алкоголе и своей сигаре, чем на сексе, поэтому я представляю себе его печальную историю одиночества или несчастной любви. Он замечает, что я смотрю на него, и улыбается мне.
– Приятный аромат.
– У моей сигары?
– Да.
– Это обычная тосканская сигара.
– Хороша.
– Хороша против комаров, – говорит мадам Жюли с сарказмом.
Мужчина спокойно улыбается.
– Это выдержанный табак.
Мадам не упускает случая:
– Точно выдержанный… испорченный.
– Хочешь?
Его вопрос меня смущает.
– Не беспокойтесь.
Мужчина молча вытаскивает из кармана аккуратно отрезанную половину сигары и любезно протягивает ее мне:
– Возьми.
Первое, что я делаю инстинктивно, – нюхаю ее. Я чувствую запах соломы – насыщенный, горьковатый, смешанный с ароматом горького шоколада.
– Ее нужно курить спокойно, медленно. С вином или граппой.
– Спасибо.
– Не за что.
Все эти взаимные любезности раздражают мадам Жюли (у которой из французского, конечно же, только имя). С заметным венецианским акцентом она поторапливает нас:
– Господа, настало время действовать. Или вы хотите, чтоб ваш пыл остыл? Если вы пришли сюда посидеть в мужской компании, надо было идти в другое место.
Благородный мужчина, который подарил мне половину тосканской сигары, поднимается с дивана и любезно подает руку девушке, помогая ей дойти на каблуках в направлении лестницы. Как только девушка поворачивается, становятся видны ее маленькие крепкие ягодицы, которые я представлял себе более широкими и менее плотными.
Один из плюсов борделя – возможность оценить физические достоинства женщин. В обычной жизни скрытые под одеждой формы девушек выглядят обманчиво, и бывает непросто определить, какая в реальности у них фигура. Здесь же, в борделе, девушки подчеркивают свою наготу и не вводят в заблуждение. Истинное женское тело предстает перед моими глазами как есть, без обмана. Бордель очень демократичен. Нагота восстанавливает справедливость и истину и в живописи, если только ты не вынужден всю жизнь писать лодки, деревья и лошадей.
– Господа, давайте по комнатам, смелее.
Я лежу на кровати, одетый. Виви открывает ящик и показывает мне коробку с леденцами. Она смеется, как маленькая девочка, жадно снимает обертку и отправляет леденец в рот.
– Хочешь? Мне их прислала тетя из Флоренции.
– Спасибо.
– Со вкусом смородины.
Она приносит красный леденец, кладет его мне в рот и ложится рядом со мной. Мы вместе грызем леденцы – молча, оба с улыбкой на лице. Я ощущаю точно такой же запах изо рта Виви, как у меня под языком. Я пробую поцеловать ее, но она меня останавливает.
– Нет, я не могу.
– Что не можешь?
– Я не могу целоваться. Это запрещено. Можешь делать все, что хочешь, но никаких поцелуев.
– Почему?
– Потому что через поцелуй можно заразиться.
– Больше, чем через…
Я указываю вниз.
– Конечно, больше. К нам каждый месяц приходит врач, осматривает нас и всегда говорит, чтобы мы не целовались; это из-за туберкулеза.
Мое сердце начинает биться чаще.
– Многие болеют. Некоторые даже не знают об этом. Знаешь, достаточно немного слюны. Даже если совсем чуть-чуть.
Я чувствую себя разоблаченным, хотя Виви, конечно, не знает о том, что я болен.
– Знаешь, что это неизлечимо? – в ее голосе слышится искреннее сострадание к больным.
– Да, я что-то слышал…
– Это ужасная жизнь, часто они умирают молодыми… Тебе нравится леденец?
– Очень.
Повисает пауза, и Виви засовывает руку мне в штаны, как она уже делала это в гостиной. Затем она задает мне традиционный вопрос:
– Чего ты хочешь?
– Не знаю, а ты?
– Мне все равно. Что я могу для тебя сделать?
– А мы можем не решать это заранее? Давай делать то, что чувствуем, без необходимости решать.
– Хочешь сюрприз?
– Да, пожалуй.
– Еще леденец?
– Нет, если только потом.
– Некоторые потом курят.
– Леденец подойдет.
– Амедео, тебе ведь нет восемнадцати, верно?
Я не отвечаю; сердце снова бьется сильнее. Она смеется.
– Нет, тебе максимум шестнадцать. Но это неважно, мне тоже нет восемнадцати.
– Правда?
– Никто не должен этого знать. То есть клиенты не должны это знать. Мадам Жюли боится слежки.
– Понимаю. Ты из Флоренции?
– Да. Ты был во Флоренции?
– Пока нет.
– А чем ты занимаешься?
– Я художник.
– Если хочешь стать художником, тебе нужно увидеть все шедевры в Галерее Уффици.
– Я знаю; ты была там?
– Нет, некому было меня туда сводить. Отца я никогда не знала, а мама все время работала. Так ты решил, чего ты хочешь? Мне кажется, что ты готов. Даже очень готов…
Она смеется и сжимает руку, которой меня ласкает.
– Давай сначала немного поговорим.
– Знаешь, многие хотят просто поговорить. Неизвестно только, зачем они приходят сюда. Если хочешь просто поговорить, можно же поговорить с женой, правильно?
– Я не женат. И что они тебе говорят?
– Они жалуются – на работу, детей, женщин. Вы, мужчины, постоянно жалуетесь. Однако те, которые хотят поговорить, оставляют больше чаевых. В конечном счете это неплохо: работаешь меньше, зарабатываешь больше.
– Виви, ты самая красивая.
– Спасибо.
– Ты бы могла заниматься чем-то другим.
– Как моя мать? Выделывать шкуры, обрабатывать кожу и уродовать руки?
– У тебя мог бы быть жених.
– Господи, и ты о том же? Пара клиентов говорили мне, что хотят меня… как это называется? Спасти.
Она весело смеется.
– Они ненормальные. Ты посмотри – какое белье, кружево, вуаль, трусики с вышивкой…
– Виви, на тебе нет трусиков.
– Они в ящике, глупый. Меня тут кормят, поят, зимой я в тепле. Где еще есть столько удобств? И кроме прочего – врач, лекарства. Представляешь? Выйди я замуж за одного из клиентов, я рискую быть выкинутой на улицу, как только ему надоем. Я им не доверяю.
Я восхищаюсь трезвостью и практичностью Виви, ее осведомленностью в отношении человеческого рода и его несчастий. Она видит людей такими, какие они есть. Она разбирается в этом лучше меня.
Мы, мужчины, проигрываем женщинам в силе и смелости. Мы хотим, чтобы мама нам помогала и утешала нас, чтобы дочери и сестры нас понимали, невесты и жены любили и обожали, а любовницы возбуждали и удовлетворяли. У нас много коробочек, в каждой из которых спрятана частичка женского мира. Каждой коробочке должна соответствовать женщина, подходящая для текущей потребности.
Неужели я тоже стану таким? Боюсь, что да. В сущности, я всего лишь сын своего отца. Он приезжает к семье, только когда ему необходимо открыть коробочку с надписью «обязательства». Потому что это тоже потребность, одна из основных потребностей мужчины. Исполнение обязательств вызывает уважение у окружающих. Однако по приезде в Ливорно человек, который произвел меня на свет, становится невнимательным, как будто забывает, кто его семья. Он никогда не сидел у моего изголовья; разорившись, вместе с богатством он потерял и остатки простых человеческих чувств, эмоций и привязанностей. Я представляю его себе по беспощадному описанию моей матери: в борделе Сардинии с девушками, имен которых он не знает и для которых мизерная оплата важнее удовольствия. Нас отличает то, что я еще только пытаюсь понять, что такое секс, любовь, женское тело и женские мысли, – а для него, должно быть, любой бордель уже стал ближе, чем собственный дом.
Пока я погружаюсь в свои мысли, Виви постепенно перестает меня ласкать. Она задремала, и мое возбуждение утихло.
Я разглядываю ее – и осознаю, что она действительно очень красивая. Блеск ее кожи освещает комнату, ее грудь – пышная и подтянутая, соски – маленькие и торчащие. Я бы хотел ее нарисовать. Я восхищаюсь ею, но уже без сексуального возбуждения: его сменяет спокойствие, присущее безмятежности красоты. В этой отрешенности тело соединяется с душой, и Виви кажется мне неземной. Возможно, этой девушке предстоит сложная жизнь, полная невзгод, которым ей придется покориться. Но этот момент – волшебный и необычайный. Его стоит запечатлеть. Я понимаю, что́ мне хочется рисовать в будущем: неповторимые моменты отрешенности. Никаких больше натюрмортов, лодок и лошадей. Мужчина и женщина в минуты безмятежности. Только в такие моменты возможно осознать, кто мы. Безмятежность отрезвляет нас, позволяет нам что-то понять о нас самих – и принять это без досады и тревоги.
Утешение
Снова лихорадка. Снова кашель и боли.
Я харкал кровью.
Рецидивы болезни случаются внезапно и непредсказуемо. Впрочем, доктор сказал, что этот приступ пройдет быстрее, чем предыдущие, потому что он слабее.
Мои страдания осложняются плевритом, но температура не такая высокая, и ее легче сбить.
Мама снова надела маску спокойствия. Она уверенно улыбается и уделяет мне много внимания.
Ее путь – непокорность, сопротивление смирению, и с годами она не теряет запала. Если она перестанет быть для всех полезной и всем помогать, то начнет медленно умирать. Моя мать – живой пример тому, что святость достигается ежедневным трудом, а не обращением к Богу.
Ожидание скорой смерти в моем возрасте порождает ежедневную душевную боль. Слегка успокоить ее удается только с приходом сна. Как только наступает ночь, я ищу убежища в кровати с одной лишь надеждой – поспать.
К сожалению, у меня никогда не получается быстро уснуть. Я лежу под одеялом, читаю, думаю, но практически никогда не засыпаю сразу, как мне того хотелось бы. С недавнего времени мама готовит для меня настои трав в надежде преодолеть мою бессонницу, но мне хочется чего-то более сильного. Если бы мой сон не прерывался, мне было бы проще переносить дни.
Но и во сне иногда случаются приступы удушья, дыхание прерывается, и я просыпаюсь. Врач не связывает эти приступы с туберкулезом. Возможно, я просто боюсь умереть во сне.
Я тайком провел эксперимент – это сработало, – и теперь я довольно часто его повторяю. Перед сном я иду на кухню, наливаю себе бокал вина и выпиваю залпом. Это дарит недолгое успокоение. У меня немного кружится голова, когда я касаюсь подушки, – но если я выдерживаю, то сплю хорошо.
Не думаю, что мама одобрила бы мое поведение, если б узнала. Она говорит: чтобы вылечить туберкулез, нужно хорошо есть и избегать всего, что отнимает силы. Поэтому алкоголь запрещен, и будет лучше, если никто не узнает, что я тайком выпиваю, иначе вина мне больше не видать. Но я убежден, что туберкулезу наплевать на все эти предосторожности.
Мама поняла, что живопись может отвлечь от терзающих меня мыслей (хотя в то же время она знает, что живопись может и принести мне страдания, особенно если обнаружится, что у меня нет таланта).
– Дедо, мне нужно во Флоренцию – подписать контракт с моим издателем. Ты мог бы поехать со мной. Хочешь?
– Очень!
– Скажешь маэстро Микели, что тебя не будет несколько дней. Попроси у него совета, что посмотреть во Флоренции.
– Лодки и лошадей.
Мама улыбается, улавливает мой сарказм, но не отвечает.
– Я сам знаю, что посмотреть во Флоренции. Мне не нужно у него спрашивать.
Флоренция. 1901
– Синьора! Тот, кто снес часть городской стены, – просто сумасшедший.
В гостинице, где мы сняли комнату, портье изливает душу моей матери.
Оказывается, когда-то Флоренция была столицей Италии; я не знал об этом. Недолго, но была[4]. В те годы здесь затеяли масштабные работы по перепланировке[5] старого города: сносили целые кварталы, прокладывали новые улицы. Флорентинцы говорят, что раньше было лучше, – но, как известно, люди всегда предпочитают, чтобы ничего не менялось.
– Наш город был таким красивым!..
– Он и сейчас красивый.
– Флорентинцы так любили городские стены и Меркато Веккьо![6] Не было никакой необходимости перестраивать город, как это сделал Поджи.
– А кто это?
– Архитектор, точнее – «градостроитель», как он сам себя называет… Его все ненавидят.
– Я не могу оценить разницу между «до» и «после» этого Поджи. Но во Флоренцию приезжает много людей, и для владельцев гостиниц современный и обновленный город – это же хорошо?
– Нас и так много, а из-за туристов стало вообще не продохнуть! Знаете, сколько нас? Только флорентинцев – около пятидесяти тысяч. Плюс иностранцы, которые приезжают в отпуск, плюс те, кто сюда переехал насовсем из-за красоты города, и те, кто живет в окрестностях. Особенно много англичан, скоро тут будут одни англичане…
Мы не спеша прогуливаемся, наблюдая за жизнью флорентинцев, и не находим подтверждения словам портье в том, что видим вокруг: люди – мирные, трудолюбивые, спокойные. Рабочие в синей или коричневой спецодежде спешат на фабрики и стройки, мебельщики выставляют посреди улицы свои столы и шкафы для посуды. Мама говорит, что особенно славятся своим мастерством флорентийские портные и те, кто работает с кожей. В каждом квартале – свои ремесленники: например, ювелиры располагаются на Понте-Веккьо[7], а плотники – на виа Маджо.
Мужчины и женщины здесь интереснее и привлекательнее, чем в Ливорно. Дам сопровождают внимательные и деликатные спутники, открывающие перед ними двери и подающие руку с искренним уважением. Я озираюсь по сторонам – как провинциал, который всему изумляется.
– Мама, мне здесь все нравится!
– Ты еще ничего не видел, – смеется она. – А теперь пойдем есть десерт.
Мы идем в кафе Delle Colonne. Его так назвали, потому что богато украшенный потолок подпирают четыре пилястры. Здесь чудесная, полная жизни атмосфера.
И у меня еще ни разу не случился приступ кашля. Может быть, средство для излечения чахотки – это красота?
Я чувствую запах тосканских сигар – тот же аромат, что у сигары, которую мне подарил утонченный синьор в том роскошном борделе. Мне очень нравится этот запах – это все равно что курить шоколад.
Мне хочется курить. Но я не скажу об этом маме; я никогда никому не расскажу об этом.
Следующее кафе – Paszkowski[8], в стиле парижских и венских кофеен. Освещение масляными лампами и табачный дым создают теплую атмосферу с золотистым свечением. Здесь делают отменные десерты и мороженое с множеством вкусов. Я наедаюсь до отвала.
Мама постоянно смеется, ей весело; я очень давно не видел ее такой спокойной. Для нее важно, чтобы я съел как можно больше. Она считает, что туберкулез лечится едой. Я не очень-то верю в это, потому что, когда я переедаю, у меня вздувается живот – и мне тяжело дышать. Но мама настаивает, и если для ее счастья я должен есть – то буду есть, пока не лопну.
– Дедо, давай вернемся в гостиницу, я хочу спать. Твоя мама уже не девочка.
– Моя мама – настоящий генерал! Во сколько ты завтра встречаешься с издателем?
– Я могу прийти в любое время.
– Можно я погуляю, пока у тебя будет встреча?
– Если только в центре.
– Да, конечно, я буду в центре.
– А после обеда пойдем в Галерею Уффици – так что ты не должен быть уставшим, хорошо?
Слышу мамино тяжелое дыхание, она похрапывает. Я, как обычно, не могу заснуть. Кроме того, я переел и все еще возбужден тем, что увидел за день.
Я должен выпить. Если я не выпью, я не усну и буду фантазировать до самого утра. Не представляю, как это сделать. Дома все просто – я тихо проскальзываю на кухню, пью и возвращаюсь в постель. А тут что мне делать?
Я поднимаюсь, тихонько подхожу к двери, отпираю замок и медленно, бесшумно открываю дверь. Мама спит. Я выхожу из номера, спускаюсь по лестнице и подхожу к стойке. Там сидит портье, который нас заселял, и что-то пишет в регистрационном журнале. Он поднимает взгляд и замечает меня.

