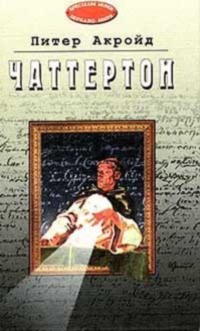Полная версия
Расцвет империи. От битвы при Ватерлоо до Бриллиантового юбилея королевы Виктории
Фарс и трагедия превратились в пантомиму, когда принц-регент взошел на трон под именем Георга IV в конце января 1820 года. Его отец, безумный, слепой и бородатый, как библейский пророк, пребывал где-то между миром живых и мертвых. Он разговаривал с умершими так, словно они были еще живы, и с живыми так, будто их уже похоронили. Он умер 29 января 1820 года, и его смерть не принесла ничего нового, кроме официальной коронации его сына. В прошлом году на свет появился новый отпрыск этой странной семьи, принцесса Александрина Виктория, больше известная под своим вторым именем. Она была дочерью принца Эдуарда, четвертого сына Георга III, и принцессы Виктории Саксен-Кобург-Заальфельдской. В семье ее матери все были немцами, и она гордилась этим фактом. Она вышла замуж за немца, и при ее дворе в Виндзоре и в других местах часто говорили на немецком.
К этому времени Георг IV окончательно обленился, располнел и пустился во все тяжкие. И он отнюдь не расположил к себе подданных, когда отправил поздравление городским властям Манчестера после событий Петерлоо. Люди говорили, что он мог бы, по крайней мере, дождаться результатов расследования. Впрочем, не он был главным действующим лицом в упомянутом фарсе. Эта роль досталась его жене, королеве Каролине, которая после возвышения супруга решительно вознамерилась занять свое законное место королевы Великобритании. Трудно было представить особу, меньше похожую на королеву. Она была такой же толстой и распутной, как ее муж, меняла любовников как перчатки и теперь, окруженная облаком дурных запахов, порожденных отсутствием гигиенических привычек, вернулась в свою страну.
Георг и Каролина поженились при неудачном стечении обстоятельств четверть века назад в часовне Святого Иакова. Во время церемонии принц с трудом держался на ногах: потрясение, вызванное видом и запахом невесты, оказалось для него слишком сильным. По словам Мельбурна, «принц выглядел как человек, движимый глубоким отчаянием. Он напоминал Макхита, идущего на казнь, и он был совершено пьян». Время не изгладило первого впечатления. Принцесса Каролина уехала, оставив мужа в Англии, чем вызвала в обществе большой скандал. В Европе она предавалась увеселениям и тратила деньги, а путешествуя по Ближнему Востоку, однажды въехала в Иерусалим на осле. В другой раз она явилась на бал с половиной тыквы на голове. После ее возвращения в Англию в качестве законной королевы новый король делал все возможное, чтобы избавиться от нее. Он обвинил ее в супружеской неверности и потребовал для нее суда, что послужило поводом для множества саркастических замечаний. Она пережила это испытание. Генри Броухам, допрашивая свидетелей, чтобы найти улики против нее, снова и снова слышал ответ: Non mi recordo – «Я не помню». Все повторяли эту расхожую фразу, словно строчку из модной итальянской песни. Реформы на время оказались забыты, единственной темой для разговоров стал суд. «Слышно что-нибудь новое о королеве?» – спрашивали все.
Удивительнее всего в этом злополучном деле была та популярность, которой Каролина пользовалась у английского населения. Куда бы она ни отправилась, ее приветствовали криками и аплодисментами. На какое-то время она стала королевой всех сердец. Правительство унижало ее, король дурно с ней обходился… Разве не то же самое происходило со всей страной? Знала она об этом или нет, но для радикалов она была символической фигурой, олицетворявшей все тяготы и обиды несчастных подданных короля. Женщины Лондона совместно с радикалами города организовывали массовые собрания и шествия в ее поддержку. Казалось, страданий одной женщины может оказаться достаточно, чтобы свергнуть существующую власть. Сара Литтелтон, придворная дама и жена члена парламента, писала: «Король настолько непопулярен, его характер вызывает такое презрение, а все его поступки столь безрассудны и беспринципны, что вряд ли кто-нибудь может желать ему удачи, разве только из страха перед революцией».
Прошло несколько недель, и вся жалость и сочувствие к Каролине испарились. В моду вошел стишок:
– Мадам, мы смеем вас проситьУйти и больше не грешить.– Ах, это слишком тяжкий труд!– И все же вам не место тут[6].Приняв от администрации ежегодную ренту размером 50 000 фунтов стерлингов, она потеряла симпатии публики. Когда летом 1821 года она появилась у дверей Вестминстерского аббатства и безуспешно пыталась открыть то одну, то другую дверь, чтобы попасть на коронацию своего отлученного от брачного ложа супруга, ей кричали «Позор!» и «Вон!». Вскоре о ней забыли, и через несколько недель она умерла, никем не оплаканная. В какой-то мере причиной ее опалы стали непостоянство и забывчивость толпы, с нетерпением ждавшей очередного скандала или сенсации. Проницательные политики приняли к сведению этот урок и сделали вывод, что любая популярность или непопулярность не длится долго.
Некоторые министры тоже почувствовали витающие в воздухе изменения. Роберт Пиль, младший министр, которого ждало блестящее будущее, в марте 1820 года в письме своему другу спрашивал, не думает ли тот, что «настроения в Англии более виговские – если выражаться одиозным, но понятным языком, – чем политика правительства» и считается ли сейчас необходимым изменить способ правления. Он попал ближе к цели, чем мог предположить. Через два года его перевели в торийский кабинет министров лорда Ливерпула, где он начал работать над смягчением Уголовного кодекса. Это стало одной из причин, почему 1820-е годы на фоне волнений предыдущих лет и борьбы за реформы 1830-х годов прошли относительно спокойно.
В мае 1820 года лорд Ливерпул представил (или, скорее, упомянул) перед делегацией торговцев из Сити одну предложенную вигами меру. Преимущества свободной торговли манили Ливерпула. Он знал: некоторые люди считают, будто Британия процветает при протекционизме, но он был уверен, что страна достигает успехов не благодаря, а вопреки этому. В свойственной ему медленной, непрямой и бесконечно осторожной манере он не выдвигал собственных предложений. Вместо этого он создал ряд парламентских комитетов для изучения множества сложных вопросов, решение которых вело, по сути, к изменению государственной политики. В результате появилась возможность ввозить товары в Англию на иностранных кораблях и ввозить иностранные товары из любого свободного порта, были отменены три сотни устаревших статутов о торговом мореплавании. В Annual Register охарактеризовали эти меры как «несомненно обширные» и назвали их «первым случаем, когда государственные деятели открыто признали, что действуют в соответствии с буквальными принципами политической экономии». Итак, процесс начался.
В 1825 году в Оксфорде открылась кафедра политической экономии. Воспоминания и письма того времени полны упоминаний об этом. Виконт Сидмут писал весной 1826 года: «Везде и всюду, на обедах и званых вечерах, в церкви и в театре только и слышно разговоров, что о политической экономии и бедствиях нашего времени». Редко случалось, чтобы академическая дисциплина привлекала столько внимания и рождала столько оживленных дискуссий о труде и прибыли, ценных бумагах и драгоценных металлах. Любопытная связь прослеживается в этот период между радикальной политикой и театральным искусством. Весь смысл и эмоциональный накал георгианского театра заключался в преднамеренном смешении реального и воображаемого – именно это привлекало «ловцов безграничных мечтаний», в том числе тех радикалов XIX века, которые стремились изменить условия своего времени со свойственным им прямолинейным оптимизмом и верой в прогресс. В «низких» театрах сюжет нередко вращался вокруг внезапных перемен и нестабильности жизни – бедность, болезни и безработица составляли неотъемлемую часть драмы.
На другом берегу моря, как обычно, бурлил котел бесконечных неприятностей. В 1820 году в Европе вспыхнули четыре революции, огонь охватил Испанию, Португалию, Неаполь и Пьемонт. Некоторые страны Четверного союза, изначально обещавшие поддерживать монархию, были готовы вмешаться. Каслри, британский министр иностранных дел, был против. Он не хотел иметь к этому ни малейшего отношения, тем более что доктрина невмешательства с некоторых пор вышла на уровень государственной политики. Как он сказал одному коллеге, ему смертельно надоели эти хлопоты и переживания и, если удастся от них избавиться, он никогда не вернется к ним снова. Англия не будет участвовать в континентальных раздорах. Такая позиция могла привести к потере влияния на мировой арене, но это было все же лучше, чем вмешиваться в дела, предвидеть конец которых не в человеческих силах.
В послании к министру иностранных дел Австрии принцу Меттерниху Каслри сообщал: «Нас следует принимать, к лучшему или к худшему, такими, какие мы есть, и, если континентальные державы не могут идти с нами в ногу, им не следует ожидать, что мы будем подстраиваться под их шаг. Подобное нам чуждо». Он осуждал лихачество и рисовку. В важном дипломатическом документе кабинета министров от 5 мая 1820 года говорилось: «Эта страна не может и не будет действовать, опираясь на абстрактные и умозрительные принципы предосторожности». В начале лета следующего года он заявил в палате общин: «Возводя себя на трибуну, чтобы судить внутренние дела других, некоторые государства претендуют на власть, присвоение которой прямо противоречит государственным законам и принципам здравого смысла». Он сполна обладал тем прагматизмом и практичностью, которые так ценят англичане. Меньше всего Министерству иностранных дел был нужен оторванный от жизни теоретик.
Торговля постепенно набирала обороты, и при открытии парламента в 1820 году король мог, не покривив душой, сказать, что «затруднения во многих промышленных районах… значительно сократились». Даже французский поверенный в делах отметил «спокойствие, царящее в Лондоне и во всей Англии». Король мог двигаться вперед с легким сердцем – хотя, кроме сердца, в нем больше не было ничего легкого. Роскошное коронационное одеяние тяжело облекало его грузную фигуру, – во время церемонии он едва не потерял сознание и немного оживился, только когда ему подали нюхательную соль. Тем не менее он держался неплохо. Возможно, он был неотесан и иногда смешон, однако хорошо понимал, в какой момент на него устремлены все взгляды. Через месяц после церемонии он отправился в Ирландию и, по словам наблюдателя, прибыл на место «мертвецки пьяным». Именно тогда его жена скончалась от пьянства и разочарований. Каслри сообщал, что Георг «воспринял эту прекрасную новость самым благопристойным образом». «Это, – сказал он по прибытии в Дублин, – один из самых счастливых дней в моей жизни».
3
Работа вечности
В те дни почти не оставалось предметов и явлений, так или иначе не затронутых религиозными разногласиями. Религия была воздухом, которым дышали респектабельные люди. Сама по себе религия была «ни холодна, ни горяча». Где-то религиозная жизнь бурлила и кипела, где-то едва теплилась. Существовала Низкая церковь евангелистов и диссентеров и Высокая церковь, больше тяготевшая к католическим ритуалам. Кроме того, была Широкая церковь, отличавшаяся либеральными взглядами на теологию и стремившаяся примирить высокое и низкое течения в масштабах страны. От этих крупных религиозных течений ответвлялись разнообразные секты и группы, верившие в Промысел Божий в отношении одного человека или всего человечества, в неизбежное искупление или адские муки. Кальвинисты, методисты, квакеры, арминиане, пресвитериане, конгрегационалисты и баптисты – все они входили в неофициальный евангелический союз, искавший точки соприкосновения с англиканами. Все они открыто стремились к благочестивой и праведной жизни. Впрочем, в этом не было ничего удивительного. Восемь из девяти членов гребной команды Кембриджа, выиграв лодочную гонку Оксфорд – Кембридж на Темзе, отправлялись затем проповедовать в Ист-Энд. Среди англиканцев «установленной церкви» подобного рвения не наблюдалось. Они почитали все привычное и респектабельное и смотрели на бедняка едва ли не с большим ужасом, чем на злодея. В романе «Путь всякой плоти» (The Way of All Flesh; 1903), действие которого происходит в 1834 году, Сэмюэл Батлер так писал о сельском церковном собрании: «Они симпатизировали или, по меньшей мере, терпимо относились ко всему знакомому и ненавидели все незнакомое. Они в равной степени ужаснулись бы, услышав, как подвергают сомнению принципы христианской веры, и увидев, как их воплощают в жизнь». Это были порядочные, степенные, не склонные к рассуждениям люди.
В отчете составителей переписи от 1851 года упоминается, что «работающие люди не могут посетить место совершения богослужений, не получив в том или ином виде настойчивое напоминание о собственном низком положении. Отгороженных скамей для избранных и расположения прочих свободных мест уже достаточно, чтобы отвратить их от посещения церкви». Что касается малоимущих и живущих на грани нищеты, никто не ожидал, что они будут ходить в церковь. Если бы они попытались туда зайти, вероятно, их просто выгнали бы. Один торговец зеленью сообщил социальному исследователю Генри Мэйхью, что «зеленщики почему-то путают религиозность с респектабельностью и не знают толком, в чем состоит разница. Для них это загадка».
По-настоящему интересным, по мнению наблюдателей, было то, что многие представители «респектабельных» классов вообще не имели веры. Броня скептицизма защищала их от доводов священников и проповедников. Многие из них не знали, во что верить – и верить ли вообще во что-нибудь. Французский историк Ипполит Тэн отмечал, что обычные английские мужчины и женщины верят в Бога, Святую Троицу и ад, «однако без особенного пыла». Это важное наблюдение. Англия не была светским государством – она была безразличным к религии государством. Проповедники, грозившие адскими муками, в целом воспринимались публикой как новое и любопытное зрелище, хотя у них было довольно много активных сторонников. Экстазы и обмороки, столь популярные в XVIII веке, перестали быть частью английского стиля. Единственным источником общественного воодушевления теперь были церковные гимны. Мертвое затишье английского воскресенья, о котором с осуждением писал, в частности, Диккенс, явно свидетельствовало о том, что церковь не способна вызвать у людей искренние сильные чувства и духовный подъем. Не было также народной веры, еще распространенной, например, в России или Америке. Устоявшиеся догматы вызывали у людей сдержанное раздражение – особенно доставалось в этом смысле концепции загробных мук. Постепенно вера становилась менее догматичной и менее конкретной, а некоторые доктрины молча отбрасывались. Однако по-прежнему сохранялись региональные различия, сложившиеся еще в XVII веке, – на юго-востоке страны преобладало англиканство, а на юго-западе и северо-западе примитивный методизм.
Сам лорд Ливерпул был по характеру «методистом» и в 1812 году сыграл важную роль в принятии закона о расширении терпимости по отношению к диссентерам. Уильям Коббет в своей книге «Поездки по сельской местности» (Rural Rides; 1830) описывал диссентеров как «шайку крикливых ханжей» и «бродячих фанатиков», но к этому течению принадлежало немало английских верующих, и все они, от квакеров до Коннексии графини Хантингдон, держались отдельно от англиканской церкви. Однако им было запрещено посещать университеты в Оксфорде и Кембридже, и они были обязаны заключать браки в церквях и хоронить своих умерших на кладбищах под руководством англиканских священников.
Второй по величине религиозной группой в стране был тот неофициальный альянс евангелистов и утилитаристов, чья деятельность во многом определила характер эпохи. И те и другие стремились к исправлению нравов, но одни шли к просветлению дорогой разума, а вторые – дорогой духовного возрождения. Их перекликающиеся светские и религиозные принципы – учиться и трудиться, проповедовать и осуждать праздность и роскошь – со временем заметно изменили английский характер. Евангелисты придерживались крайне строгого толкования Священного Писания, и они были хорошими помощниками в felicific calculus – исчислении счастья, с помощью которого утилитаристы хотели достичь наибольшего блага для наибольшего количества людей. И им в равной мере были свойственны как прагматизм, так и догматизм, и они послужили моральными проводниками многих социальных и религиозных реформ. Говоря словами одного из них, это была «работа вечности», бесконечный труд. При этом они активно стремились улучшить то время, в котором жили сами. Поток брошюр и периодических изданий, посвященных самосовершенствованию и нравственной практике, предназначался для всех, умеющих читать.
Провидение, прогресс и цивилизация считались равноценными составляющими Божьего промысла. Евангелисты призывали каждого человека к духовному возрождению, утилитаристы продвигали доктрину самопомощи. Их первым успехом стало введение в тюрьмах «шаговой мельницы», а в 1830-х годах их взгляды уже транслировались на уровне государственной публичной политики. Не все их начинания касались таких мрачных предметов. Евангелисты энергично выступали против работорговли, а утилитаристы – против Хлебных законов и других факторов, препятствующих свободной торговле. Они требовали реформ, и их объединенные усилия помогли постепенно изменить политику 1820-х годов. Они притягивали к себе людей, стоящих на пороге индустриальных перемен. Джордж Элиот писала: «Настоящая драма евангелической церкви – а в ней найдется множество превосходных драм для всякого, кто способен распознать и изложить их, – кроется в среднем и низшем классах». Именно эти классы полностью изменили Британию.
Лондонец Чарльз Бэббидж, родившийся в Уолворте в 1791 году, был одним из величайших изобретателей и аналитиков XIX века. Он разработал и сконструировал так называемую разностную машину и аналитическую машину, которые могут считаться прямыми предшественницами цифрового компьютера. Это были сложные устройства с перфокартами и дисками набора, действие которых мало кто понимал тогда и мало кто понимает сейчас. Любопытно, что герцог Веллингтон, несмотря на свою репутацию консерватора и реакционера, в глубине души, очевидно, осознавал потенциал машин.
В семнадцать лет Бэббидж страстно увлекся алгеброй. Он пытался понять, каким образом числа обретают жизнь, и проникнуть в суть математического процесса, позволяющего создавать новые числа. Он вспоминал: «Впервые, насколько я помню, идея о вычислительных таблицах пришла ко мне в 1820 или в 1821 году… Я говорил с другом о том, как хорошо было бы задействовать в вычислениях силу пара». В каком-то смысле это была метафора, поскольку, согласно другому источнику, он сказал: «Я думаю, все эти таблицы [логарифмы] можно рассчитать с помощью механизмов». Сила пара, двигатели и машины составляли единое облако знаний. Бэббидж набросал несколько эскизов вычислительной машины, но затем слег с нервным расстройством. В своем воображении он нарисовал устройство для создания математических таблиц, предвосхитившее новый мир механизированных инструментов и инженерных технологий. Задумка Бэббиджа настолько опережала все остальные вычислительные инструменты того времени, что в руках его современников выглядела как телеприемник в руках обезьян.
Первая машина Бэббиджа называлась разностной машиной, потому что рассчитывала числовые таблицы методом конечных разностей. Вскоре изобретатель начал работу над новым устройством – аналитической машиной, которая, по сути, представляла собой автоматический калькулятор. Она работала по принципу хлопкопрядильной фабрики: материалы, то есть числа, хранились на складе отдельно от механизмов, но в нужный момент их извлекали и обрабатывали на станке. Каждая часть устройства предназначалась для совершения отдельного действия, такого как сложение и умножение, но при этом оставалась связанной со всеми остальными частями. Бэббидж писал, что машина «кусает сама себя за хвост» и что «вся арифметика теперь подвластна механизму». Вероятно, современникам эти рассуждения казались совершенно потусторонними, и до середины XX века они в общем и целом оставались без внимания. Машины Бэббиджа называют одним из величайших интеллектуальных достижений в истории человечества, но в то время в Англии мало кто проявлял к ним хотя бы каплю интереса.
Вычислительная машина Бэббиджа пришлась не ко времени. Современники оказались категорически не готовы понять и по достоинству оценить ее устройство. Это была самая хитроумная и сложная машина, когда-либо построенная человеком, и она появилась задолго до того исторического периода, когда ее смогли бы должным образом освоить. Трудно сказать, сколько еще точно так же опередивших свое время гениальных изобретений кануло в пучину времени. Копия аналитической машины Бэббиджа выставлена в Музее науки в Лондоне – она и сейчас напоминает какого-то странного идола, извлеченного из неведомой пещеры и, как ни парадоксально, по-прежнему выглядит чужой во времени. Сохранилось и кое-что еще. Половина мозга Чарльза Бэббиджа хранится в музее Хантера, а другая половина – в Музее науки.
Тот факт, что имя Бэббиджа до сих пор не так хорошо известно публике, как имена поэтов и романистов того времени, свидетельствует об общем равнодушии викторианской интеллигенции к прикладной науке. Одним из немногих, кому все же удалось войти в историю исключительно благодаря масштабу своего гения, был Джереми Бентам. Воспользовавшись одним из его неологизмов, мы можем назвать его «пан-прародителем» утилитаристов и felicific calculus. Хотя он начал свою работу и свои исследования в XVIII веке, более уместно рассматривать его в контексте следующего столетия. Это был еще один великий лондонский провидец (он родился в Спиталфилдсе в 1748 году) и практический гений, которого можно поставить в один ряд с Бэббиджем. Бентам не был широко известен при жизни, но удостоился обильных славословий после смерти. Его история, как и история Бэббиджа, подтверждает справедливость избитой истины: нет пророка в своем отечестве.
В своей околореформенной деятельности Бентам опирался на простую веру в «наибольшее счастье для наибольшего количества людей». Эта радикальная максима вела его тернистыми путями правовой реформы, тюремной реформы и реформы Закона о бедных. Будь он христианином, он мог бы сделать своим девизом евангельское изречение: «Кривые пути распрямятся, а неровные сделаются гладкими» (Лк. 3:5). Он участвовал в подготовке Избирательной реформы 1832 года, впервые наделившей избирательным правом всех взрослых мужчин, и утверждал, что «всякий закон есть зло, ибо всякий закон есть нарушение свободы». Главной задачей того времени стал поиск рациональных решений и рациональных способов их воплощения в жизнь. В нем звучала музыка механизмов, конкуренции и прогресса. Никто больше не спрашивал: «Быть или не быть?» Вопрос стоял иначе: как это работает?
Бентам также приложил руку к основанию институтов мастеровых, ставших одним из признанных триумфов Викторианской эпохи. В эти заведения стекались не только ремесленники, но и клерки, подмастерья и владельцы лавок, привлеченные отблесками до этих пор недоступного им мира знаний. По сути, целеустремленным представителям средних классов институты дали больше возможностей, чем работникам физического труда, для которых задумывались изначально. В самых увлекательных биографиях и художественных произведениях того времени нередко встречается тема нелегкого, иногда даже мучительного самообразования вопреки всем тяготам и препятствиям. Кто-то вставал до рассвета, чтобы почитать учебник при свече, кто-то читал при свете огня в таверне, кто-то пешком одолевал 13 миль (ок. 21 км) до ближайшей книжной лавки, а кто-то даже платил пенни, чтобы прочитать газету в местной пивной.
Таким образом, как мы еще раз убедимся на следующих страницах, XIX век вряд ли можно назвать религиозным временем. Растущее уважение к науке как к способу познания мира ничем не помогало тем, кто проповедовал религиозные истины, а растущее безразличие к самой религии стало одним из первых признаков надвигающейся секуляризации общества. Христианская вера постепенно становилась все более фрагментированной и расплывчатой. Драма эволюции вытеснила драму искупления, и стало ясно, что научная модель дает для понимания практической стороны жизни намного больше, чем любая брошюра Общества распространения христианского знания.
Книга Чарльза Дарвина «Происхождение видов путем естественного отбора» (1859) – явление столь же типично викторианское, как Всемирная выставка или Альберт-холл. Главной движущей силой в ней выступает непреодолимый инстинкт борьбы и конкуренции, под действием которого в развернувшейся жизненной битве «северные виды смогли возобладать над менее могущественными южными видами». В ней ничего не говорится об искуплении, покаянии или благодати. Она рисует по-настоящему мрачный мир, где господствуют вынужденная необходимость в труде и стремление к власти, бесконечная борьба и смертоубийство. Взглянуть на викторианскую цивилизацию с точки зрения Чарльза Дарвина – значит увидеть ее более ясно. Дарвин также соглашался с доктриной Мальтуса, гласящей, что популяции обречены на вымирание, поскольку их численность растет быстрее, чем количество доступных им ресурсов. Где-то здесь, вероятно, кроются истоки викторианской меланхолии, сыгравшей в истории не менее важную роль, чем викторианский оптимизм.