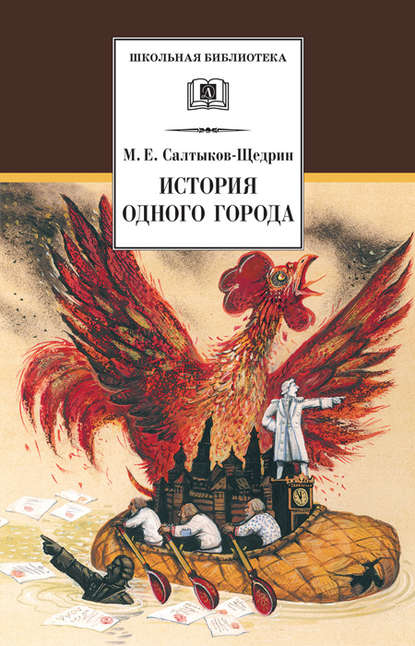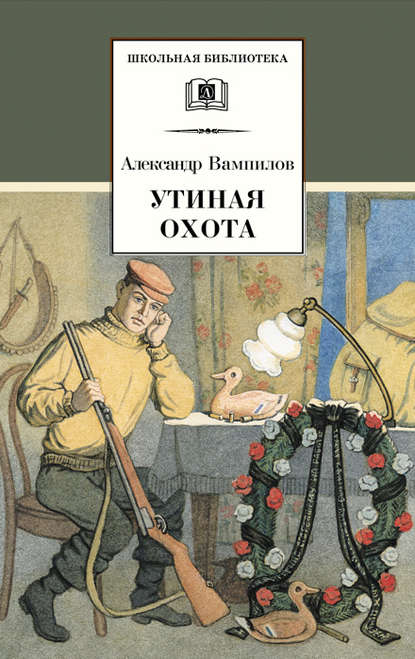Полная версия
Мой сумасшедший папа


Ирина Андрианова
Мой сумасшедший папа
От автора
Эта книга – о ваших родителях, когда они были подростками. Об их странной, многослойной, местами опасной жизни.
В шестнадцать лет им, как и вам, тоже очень хотелось быстрее стать взрослыми, решать сложные проблемы, быть первыми в компаниях и открыто презирать слабаков. Им ничего не стоило обидеть ближнего, начать преследовать провинившегося и гнать его, как затравленного зайца, по улицам, переулкам, по городу, по жизни. Вашим родителям казалось, что вольный ветер в спину, дождь в висок, окрик взрослых вдогонку – это то, что надо! Крылья отрастают за горячей спиной.
В шестнадцать все мгновенно меняется: плохое – хорошее, друг – недруг, черное – белое. Такой неукротимый калейдоскоп из образов, понятий, ощущений. Очень трудно понять, где Истина, что правильно и нестыдно, как миновать боль и сделать так, чтобы никто не упрекнул, не засмеялся, не унизил. А если упрек, смех, унижение случаются – это конец всему, лучше камнем вниз… Так думаешь в шестнадцать лет.
Вы узнали себя, дорогие читатели? Ведь такими неуживчивыми, злыми, ершистыми были не только ваши родители, но временами бываете и вы сами. Увы, закон жизни один и тот же для всех поколений людей: выбраться на свет из грубой, жесткой, неудобной подростковой кожи восхитительной бабочкой – хорошим человеком.
В начале 1990-х моя трилогия появилась в журнале для подростков «Парус». Тогдашние читатели запомнили ранимую Командиршу, которая предала своего отца и теперь живет с ощущением беды. Запомнили и злого красивого парня Чёрта – предводителя подростковой компании. Но стоило Чёрту оступиться, показать свои слабые стороны, как он из первого человека превращается в последнего. Не забывается и резкая, непримиримая Эльза – девушка, считавшая себя железной и самой сильной на земле. Наблюдать за жизнью Эльзы – невероятное напряжение для читателя, но когда в конце книги мы видим, что произошло с героиней, хочется закрыть руками лицо и плакать…
Дорогие читатели, пришло время и вам прочитать «Моего сумасшедшего папу». Трудное чтение – всегда на пользу, потому что оно заставляет сопереживать, размышлять, узнавать себя в других. И помогает «вылупиться» достойному, правильному человеку.

Мой сумасшедший папа

«Папа, я предательница. Помнишь день выпускного бала? Папа, я – черный человек. Иногда мне кажется, что меня вываляли в грязи, а грязь запеклась, засохла, обезобразила лицо, руки, ноги, тело. Включая душу. Ты не сможешь простить меня, папа, если узнаешь всю правду. Я предала тебя. Я потеряла тебя в гадкий выпускной вечер. Помнишь? Помнишь тот день?»
Это письмо я написала несколько лет назад.
Я не смогла отправить его.
Не смогла разорвать.
И забыть не могу до сих пор.
Получилось, что я написала его самой себе.
Однажды я возвращалась домой в ночной электричке с одним мальчиком. Его звали Чёрт. Конечно, это было не имя, а кличка, причем удивительно точная.
Чёрт, в свою очередь, звал меня Командиршей. Когда мы познакомились, я говорила со всеми решительно, отрывисто, громко смеялась, как какой-нибудь отставной полковник в семейном кругу, – одним словом, Чёрт был не дурак и верно дал мне кличку.
Итак, мы ехали в ночной электричке.
Окно, у которого мы сидели, было открыто, и влажный, немного резкий ветер теребил волосы на голове Чёрта. Но он не двигался, не менял позы уже целый час, не открывал глаз – дремал, прислонившись к оконному косяку.
Я то и дело взглядывала на Чёрта; на душе было кисло, сплошные сквозняки. Я все время ждала, что он откроет глаза, улыбнется и что-нибудь спросит – о, это было бы единственно желаемое в те минуты чудо! Но, мечтая об одном, я знала совершенно другое: через тридцать – сорок минут мы выйдем на перроне ночного пыльного вокзала, постоим минуту в молочном круге обшарпанного фонаря, Чёрт пробормочет что-то незначащее, усмехнется и исчезнет в темноте. Растворится – шоколадный мальчик. Он растворится, будто его и не было никогда в моей жизни.
Час назад, до поездки в электричке, мы поняли, что ничего между нами нет, не было и быть не может; и вообще, зря мы поперлись на далекую дачу, да еще в такую ночь, когда другие веселятся.
На мне было легкое серебристое платье, все в складках, длинное, без рукавов и с глубоким вырезом. Волнующее, в общем, платье. Над левой грудью болтался увядший малиновый цветок шиповника – еще три часа назад он был полон жизни и соков, поэтому я в порыве и сорвала его с дачного куста… На коленях лежала небольшая коричневая сумка, но не крошечная, дамская, в которую влезают только кошелек и расческа, а как раз для книги, пары общих тетрадей и яблока. С этой сумкой я таскалась на консультации перед выпускными экзаменами и зачем схватила именно ее в дорогу, на чужую дачу, – неясно. Сумка совершенно не шла к моему волнующему вечернему платью.
Я сидела в холодном вагоне электрички, поджав ноги в замызганных от дачной грязи и пыли туфлях, сцепив потные руки на коричневой сумке, и ощущала себя сломанной куклой, легко выброшенной на помойку.
Чёрт не просыпался. Да и не спал он вовсе. Просто уже отгородился от меня, моих проблем, я для него уже целый час была пустым местом. Он сам по себе сидел в вагоне – шоколадный мальчик.
Помню, я вздохнула и машинально открыла сумку. Мне захотелось в ней нашарить что-нибудь занятное, ну хотя бы обрывок старой газеты, в которую полгода назад был завернут бублик или пирожок за десять копеек. Я бы уткнулась в этот масляный газетный обрывок, в расплывшиеся бледные строки, и сидела так до самого вокзала… Мне казалось, так станет легче; ой, а на душе такая тоска колыхалась, хоть рыдай и высовывай лицо в открытое черное окошко!..
И тут я нащупала на дне сумки несколько твердых конвертов.
Я их вытащила на свет божий, машинально сосчитала: семь штук. Семь писем от папы, которые я вынимала по утрам из почтового ящика и, не читая, бросала в сумку, а сама неслась на предэкзаменационные консультации.
Я разорвала первый конверт и жадно начала читать.
«Майн либен дота! – писал в своем первом письме папа. – Мама меня привезла сюда сегодня после завтрака. Погода стояла хорошая. На территории много тенистых мест – ты же знаешь, что папочка не любит жару. После обеда я много гулял и все время думал о вас с мамой. Но больше о тебе, моя единственная дочка. Я думал, какая ты у меня стала большая, умная, выходишь во взрослую жизнь. Тобой можно гордиться. Скоро мы с мамой будем тебе не нужны. Мы уже старички стали, не поспеть нам за тобой, да и надо ли тебе, чтобы мы поспевали? Ты прости меня, дочка, я говорю так потому, что так думаю, обидеть тебя не хочу.
Дочка, мне здесь очень не нравится. Не знаю, как смогу здесь пробыть целый месяц. Только и остается думать о том, как мы с тобой раньше везде были, везде ездили. Помнишь? Садились на троллейбус на Пушкинской, друг напротив друга, как попугайчики, и ехали в Серебряный Бор. Ты там нагуляешься, набегаешься, напрыгаешься, а на обратном пути глазки закроешь и спишь. Я тебя бужу перед домом, а ты не просыпаешься. А я бужу, бужу. Ты была хорошая девочка – шоколадная головка.
Вот так я буду вспоминать про нас с тобой все время. Мне так здесь легче.
Дочка моя любезная, решил тебе написать, так как автомат все время занят и большая очередь. Все говорят по часу. Да-да, не поверишь. Если у тебя будет свободная минута, приезжай. Как сдашь экзамен – и к папочке на час, ладно? Я разграфил тетрадь за две копейки с твоими экзаменами, будешь говорить мне оценку за экзамен, я запишу, а потом, когда ты уйдешь, буду разглядывать эту тетрадь и все время думать о тебе и о маме. Дочка, буду очень ждать! И привези шерстяные носки, думаю, что буду мерзнуть, потому что моя кровать стоит у окна, а в комнате все время сквозняки.
Целую.
Твой папа»
Я воспроизвожу сейчас это письмо, как и другие, по памяти. Может быть, что-то и забыла, но основной тон письма, сравнение «как попугайчики», папин стиль навсегда-навсегда врезались в мою память. Ошибки здесь быть не должно…
Мой папа тогда – да, впрочем, и сейчас – был непохожим на других людей. О таких, как он, говорят: «Этот тип со странностями».
Когда он встречал меня из детского сада, то обычно приносил в кармане вместе с яблоком тщательно выглаженный шелковый желтый шарфик и торжественно объявлял: «Дочка, я принес тебе кашне». Это кашне он долго, с любовью, неловкими пальцами пристраивал на моей шее.
Регулярно папа водил меня в театры и кинотеатры, на детские праздники и терпеливо поджидал в дождь, снег или слякоть свою «майн либен доту» у выхода, не отлучаясь ни в магазины, ни в ближний сквер – никуда.
Еще он обожал фотографироваться вместе со мной и походы в фотоателье обставлял как великие праздники. Мы по полдня чистились, гладились, прихорашивались, шли по лужам и сугробам, осторожно ставя ноги в нагуталиненных и до блеска отполированных ботинках.
Однажды, в третьем классе, я бросила в слюнявого Крестьянкина с первой парты длинную влажную кожуру от апельсина. Бросила потому, что он строил мне дикие рожи… Крестьянкин расплакался и пожаловался родителям. Когда папа узнал об этом случае от учительницы, то дома долго смеялся, обнимал меня, не ругал ни секунды, а твердил: «Как здорово ты проучила этого Крестьянкина! Какая ты смелая!»

Все мои школьные сочинения, глупые первые стихи папа складывал в папку, время от времени извлекал их и разглядывал с таким умилительным, проникновенным лицом, будто это было не детское примитивное творчество, а архивные находки, никем еще, кроме него, не виданные, не читанные.
Когда я болела, папа ходил по дому с выпученными глазами и шептал маме страшные слова: «Если она умрет, я себе никогда не прощу!»
Он ощущал меня и себя как одно целое, неделимое существо, поэтому однажды на прогулке по солнечному лесу сообщил, что стоит на учете в психдиспансере из-за давней армейской истории. В тот год мне исполнилось двенадцать лет.
Из-за папы, его неиссякаемой бдительности, его вселенской опеки и сумасшедшей тревоги за меня и мою жизнь, в детстве я ни с кем не дружила близко, серьезно, так, чтобы не разлей вода. Папа всегда был рядом со мной, как солдат на посту, как солнце в небе.
Я вздохнула над папиным письмом и снова украдкой взглянула на Чёрта. Его лицо было спокойным, безмятежным, только в уголках губ таилось какое-то обидное брезгливое выражение. Или это мне только показалось? Но теперь его лицо и выражение этого лица не имели никакого ко мне отношения. Я и Чёрт – чужие люди, как бы случайно оказавшиеся в одном вагоне, друг против друга, будто унылые попугайчики.
И что я тогда так переживала? С самого начала со мной и Чёртом все было ясно. Ведь мы составляли нелепую пару.
Он высокий, черноглазый, с правильными чертами матового лица, с кошачьей мягкой походкой и густой, вороного цвета шевелюрой. На эту шевелюру, помню, оглядывались многие прохожие. Конечно, не все в облике Чёрта было совершенно, но эти недостатки не бросались в глаза и поэтому как бы не считались. Например, я знала, что у Чёрта невысокий лоб, можно даже сказать узкий, неприятный. Он тщательно прикрывал его челкой, маскировал. У него некрасивые верхние зубы – будто по ним кто-то ударил, они разъехались, но не выпали и прижились, оставшись кривыми – один смотрит туда, другой сюда… И все-таки, все-таки в первый момент Чёрт производил ошеломляющее впечатление: смугловатое лицо, вороные волосы, яркие, красивые губы, черные глаза. Ну, это я уже повторяюсь.
Рядом с ним я смотрелась ужасно! Широкоплечая, скуластая, ниже Чёрта на целую голову. Разве что глаза ничего – впечатляющие. Я знала от других: они менялись, как море, – то синие, то серые, то зеленые. В общем, цвет зависит от настроения и цвета одежды. Но почему Чёрт ко мне привязался – загадка, ведь у него была возможность с такими девочками ходить – закачаешься.
Познакомились мы за два месяца до нашей ночной поездки. Познакомились довольно оригинально, и конечно же ничего бы у нас не сладилось, не будь моего блистательного вранья. Вообще-то я никогда не отличалась лукавством и изворотливостью, но в момент нашего первого разговора будто нечистая сила потянула меня за язык.
Мой папа – методист по лечебной физкультуре. У него довольно маленький оклад, и он, сколько себя помню, подрабатывал частными уроками. То есть два-три раза в неделю папа ходил заниматься лечебной физкультурой в пару богатых семей, а в конце месяца получал гонорар, и, честно говоря, эти не ах какие деньги были существенным подспорьем в нашем семейном бюджете.
В первых числах апреля папа попросил меня сходить к профессору-историку, новому своему клиенту. Профессор страдал остеохондрозом – отложением солей, и папа не успевал зайти к профессору за деньгами, перезвонил и сказал, что приду я, дочка, и чтобы конверт с гонораром передали мне.
Вот я и пришла к бедному больному остеохондрознику. Правда, профессор не производил впечатления несчастного – поджарый, моложавый мужик в бархатном халате до пят, немного лысоватый, и на первый взгляд – ничего. Если бы он пристал ко мне на бульваре, я бы три-четыре минуты поболтала с ним.
В прихожей рядом с остеохондрозным моложавым профессором стоял высокий черноглазый мальчик и с любопытством смотрел на меня.
– A-а, как же, как же! – обрадовался папин новый клиент. – Вот, передай отцу, – он протянул конверт, – и скажи, что всегда с нетерпением его жду. Передашь?
– Конечно, – ответила я. – До свидания.
– До свидания. – Профессор услужливо открыл мне дверь.
За мной вышел из квартиры мальчик, успев у порога сунуть профессору свой конверт, а профессор совершенно иным тоном, чем тем, с которым обращался ко мне, буркнул ему:
– До среды, ровно в четыре.
– Ага, – ответил мальчик. Голос его оказался приятным, уже сломавшимся, низким, бархатным, – благородный такой голос.
Мы пошли гуськом, один за другим по лестнице. Она была широкой, просторной, старинной, с множеством окон – хоть пляши на ней, хоть пой, хоть спокойно гроб разворачивай. Почему я вспомнила про гроб? Наверно, потому, что старушки, сидящие перед моим подъездом, время от времени обсуждали эту животрепещущую тему: как их скорбные гробы станут разворачивать на тесных лестничных площадках – вон Марью из Солнцева перевернули между вторым и третьим этажами: узко…
– Эй, слышь! – окликнул меня мальчик. – Откуда твой отец знает Сулеймана?
Я тут же догадалась, что «Сулейман» – от профессорской фамилии Сулейкин.
– От верблюда! – огрызнулась я, но почему-то, поразмыслив, решила удостоить высокого мальчика интригующей информацией: – Сулейкин – профессор, а мой папа – членкор. Этот Сулейкин от него зависит, вот взятку давал: мол, замолвите за меня словечко в Академии наук.
– Покажи взятку, – сказал мальчик, поравнявшись со мной.
Мы не шли, а парили по светлой, шикарной лестнице.
– Смотри. – Я небрежно открыла конверт. Там лежала смятая двадцатипятирублевка – месячный заработок папы у профессора Сулейкина.
– Нежирно! – усмехнулся мальчик.
– На чай папе хватит. Или мне – на шпильки.
– Тогда давай купим тебе шпилек на все, – предложил мальчик.
Его черные глаза смеялись, он не верил ни мне, ни папе-членкору, ни взятке, ни шпилькам.
Тут меня будто бес щипнул.
– А пошли! – выкрикнула я, и у меня похолодело под ложечкой. – Пошли по магазинам!
– Во командирша! – сказал мальчик. – Не ори так, я согласен.
– Как тебя зовут? – спросила я.
– Чёрт, – ответил он, и снова его черные глаза засмеялись.
До сих пор я не знаю его настоящего имени, не знаю и фамилии, но то, что его кличка была действительно Чёрт, – это сущая правда, он тут не соврал.
Мы распахнули тяжелую доисторическую дверь светлого подъезда и вышли на весеннюю улицу. Она показалась мне грязнее и уже торжественных лестничных пролетов.
Конечно же мы не двинули по многолюдным магазинам, а закатились в ближайшее кафе-мороженое и там благополучно проели пятнадцать рублей из папиного заработка. Чёрт уже так освоился со мной, что когда официант принес сдачу десять рублей, он потянулся к ней, как к своей кровной. Мне не понравилась его рука: тонкие, детские, ленивые пальцы, небрежно тянувшиеся к несвежей, замызганной десятке. В Чёртовой руке было столько хамства, пренебрежения, высокомерия врожденного, кем-то привитого, неискорененного, что меня, помню, даже в жар бросило. У мальчишек должны быть шершавые руки, в царапинах, ссадинах, в черточках от шариковых ручек, может быть, даже с не очень чистыми ногтями, в цыпках и бугорках – руки будущих мужчин, а не холеной цацы.
Помню, я легонько стукнула Чёрта по пальцам – они от неожиданности дрогнули и сжались в кулак, как щупальца молоденького осьминога, – и сама взяла жалкую десятку. Чёрт хмыкнул, я хмыкнула в ответ. И мы пошли гулять по городу.
Если честно, мне понравилось гулять с Чёртом. Как только мы оказались на улице и свернули на ближайший бульвар, я тут же забыла про его руки и то неприятное ощущение, которое испытала несколько минут назад. Высокий, улыбчивый, красивый мальчик шел рядом и снисходительно слушал мою болтовню. Город был наш, апрель был наш, и я ощутила, что влюбилась.
О чем мы говорили? В чем была притягательность наших разговоров и встреч? Почему почти ежедневно, невзирая на страх перед надвигающимися выпускными экзаменами, на бесконечную подготовку к ним, я стремилась к Чёрту, прогуливая консультации, наплевав на учебники?
Сейчас нечего и вспомнить из тех разговоров. Больше говорила я, чем он. Придумывала занимательные истории про папу-членкора, делилась впечатлением от прослушанных новых записей из фонотеки Светки Павловой, трепалась о кинофильмах, расписывала свое великое литературное будущее, и так далее, и тому подобное. Наши беседы оказались словесным сором, шелухой, их развеяло время без следа и пыли.
Чёрт никогда не рассказывал о своих родителях; очень немного, мельком – о школе и хрониках, наполнявших ее, о тех ребятах, с которыми дружил, от безделья встречался и таскался по дворам и улицам, то есть о своей команде. Особенно меня поразило, как они разделяли людей на пять групп: чмошников (сокращенно – чмо), урюков, Степанов, хроников и мафию. Эти группы придумал сам Чёрт, а команда с восторгом повторила и заучила.
Чмошники, по мнению Чёрта, были круглые придурки; урюки – тоже придурки, но чуточку поумнее чмошников. Степаны – те, кто добрые и не предатели, умеют верно служить и никогда не закладывают, в общем, незамысловатые ребята. Хроники – идейные, долбанутые на том или ином вопросе. А мафия – это он, Чёрт. Умный. Изворотливый. Знающий себе и окружающим цену. Главный в команде.
– Чёрт, а я кто, как ты думаешь? – спросила я, когда узнала об этой таблице постижения человеческих характеров.
– Ты – никто, ты – Командирша! – улыбнулся он.
Его улыбка задела меня: он слишком широко раздвинул губы, кривые верхние зубы хищно блеснули. Брр, неприятно! Эта улыбка четко напоминала звериный оскал.
Почему он не ответил на мой вопрос? Может быть, не хотел спорить, вдаваться в подробности или жалел меня, не хотел обидеть вот так, с бухты-барахты?
Вообще, я сейчас вспоминаю, Чёрт был скучающим мальчиком, пресыщенным всевозможными мелкими развлечениями, обрывочными популярными сведениями о музыке, кино, искусстве, спорте, политике. Он был мальчиком, у которого есть всё и всё, что требуется во взрослой жизни, будет.
Почему он звонил мне? Потому что сразу, с нашего знакомства, раскусил мою простую, незатейливую натуру, мой добрый настрой к миру, нежадность, почувствовал мое желание нравиться ему – и ему стало любопытно. У него родилась одна идея. Чёрт знал, что, если он мне ее изложит, я не откажу.
Все-таки этот стройный, высокий мальчик с черными глазами и обалденной шевелюрой имел врожденное умение чувствовать людей. Из него получился бы неплохой психолог.
Но каким – ах! – легким по настроению был день нашего знакомства. Он остался в моей памяти даже некой музыкой, радостной, мажорной, прозрачной, будто неудержимая апрельская вода на лесных дорогах.
Но уже тогда, в первые часы знакомства, беда шла за мной на цепких лапах. Это я поняла со временем; но что поделаешь – человеку не дано заглянуть в свое будущее, в историю личной жизни.
Правда, истоки той беды мне более или менее ясны – они таились в нашей с Чёртом несовместимости. Он был мальчиком из иного круга, с иными понятиями о жизни, и даже если бы мы остались вместе (фантастическое предположение!), взрослыми людьми все равно бы разбежались.
Ту десятку на сдачу мне так и не удалось донести до дому: Чёрт предложил взять такси после пятичасовой прогулки, я согласилась, и сначала мы добрались до моего дома, а потом Чёрт поехал до своего, взяв детскими пренебрежительными пальцами деньги. Кто его знает, может, он вышел из машины через два дома и сэкономил таким образом семь рублей.
Папа очень заволновался, узнав, что профессор Сулейкин ничего мне не дал: я придумала историю, как чей-то глухой, тревожный голос через дверь спросил: «Кто здесь?.. Какой гонорар? Никакого гонорара я не знаю и знать не хочу!» Для пущей достоверности я описала дверь профессора, обитую красной кожей, праздничную светлую лестницу – и папа поверил. Его лицо покрылось пятнами, он забегал по комнате и запричитал:
– Обманул! Обманул! Я так и знал, что обманет! Неприятный, неприятный тип! Фу, дома ходит в халате, как женщина! Больше я к нему ни ногой! Ходишь-ходишь ко всем, унижаешься, выслушиваешь про болезни, – а знаешь, дочка, как надоедает про болезни слушать! – стараешься, а в награду что? Обман, обман и грабеж!
Про себя я облегченно вздохнула: раз папа пообещал ни ногой к профессору, так оно и будет. Бедный Сулейкин, бедный папа, бедный семейный бюджет, утративший двадцать пять рублей!.. Одна я, торжествующая, с облегченной душой – уф, мой обман не вскроется…
На следующий день Чёрт позвонил мне, и в течение двух месяцев мы встречались. Я, счастливая, думала, что пришла любовь.
Электричка отсчитывала ночные километры, в вагоне становилось все холоднее. Чёрт не открывал глаза, а я вскрыла второе папино письмо.
«Любимая, драгоценная моя, прошло уже три дня, как я здесь. Впереди двадцать один день, не знаю, выдержу ли эту пытку – очень соскучился. Все время думаю, как вы там с мамой без меня живете, как ты сдаешь выпускные экзамены. Я уверен, дочка, тебя ждет большое будущее. Ты же с семи лет сочиняешь – пишешь стихи и рассказы, поэтому целенаправленно должна стремиться к успеху и литературному труду. Я буду тебе помогать во всем, майн либен дота, ты же не отталкивай своего папочку. У меня в жизни только ты и есть, одна, как звезда. И еще – мама. Но на маму я в большой обиде. То, что она меня сюда зафуговала, очень плохо. Я тебе не успел перед расставанием сказать, но она два дня кричала на меня, когда тебя не было дома, говорила, что я испортил ей жизнь и теперь порчу тебе, а сейчас мешаю сдавать экзамены. Разве это так? Разве я не думал всегда только о тебе и не жил ради тебя? Ведь еще в девять месяцев тебе одна женщина в сквере, где вы с мамой каждый день гуляли, предсказала литературное будущее и посоветовала отвезти тебя под цветущую яблоню, и чтобы ты под яблоней уснула. „Тогда, – сказала та женщина (я думаю, она была волшебницей), – ваша дочь станет заниматься литературным трудом“. Мама не придала значения этому предсказанию, а я тут же – был май – отвез тебя в Ботанический сад, и ты там под яблоней заснула. Думаю, не зря я тебя отвозил: твои сочинения всегда считались в классе лучшими…»
Я закрыла глаза, почувствовав: закрыть глаза необходимо, иначе заплачу, и увидела своего суетящегося папу, который ставит на стол над моей головой амариллис, четыре огненных граммофона на сочной длинной ножке, и приговаривает: «Спи, спи, майн либен дота… Спи, спи, моя шоколадная головка». Видимо, домашними цветами папа старался закрепить чары цветущей яблони, и когда в нашей квартире распускались нежные узамбарские фиалки, жасмин самбук, лилии, он их пристраивал над моей постелью. Папа с удовольствием ухаживал за домашним садом, видимо предполагая, что во время цветения растения отблагодарят всю нашу семью, и в особенности меня, сторицей.